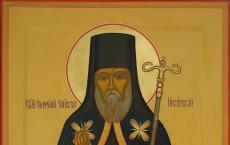Пути модернизации латинской америки таблица. Процессы модернизации и трансформации в странах латинской америки. Демократическое пробуждение Латинской Америки
Куба – революционный вариант модернизации
События, развернувшиеся на рубеже 50-х – 60-х годов на Кубе, небольшом острове в Карибском море, привлекли к себе внимание всего мира. И это вполне объяснимо. Маленькое островное государство бросило открытый вызов наиболее мощной державе мира – США. Куба тогда стала символом независимого развития и одновременно полигоном, где проходил проверку практикой революционный вариант модернизации латиноамериканского общества.
С момента провозглашения формальной независимости и вплоть до победы революции в 1959 году Куба находилась в очень сильной зависимости от США, которые контролировали ее экономику и политическую жизнь. Недовольство таким положением дел накапливалось постепенно и рано или поздно должно было вырваться наружу. Ситуация стала быстро накаляться после того, как в 1952 году на острове был осуществлен государственный переворот, в результате которого на Кубе утвердился один из наиболее реакционных режимов в Латинской Америке во главе с Батистой. В авангарде борьбы против его режима шли радикально настроенные студенты, которые искренне мечтали о лучшем будущем для своей страны. Они были твердо убеждены, что, пока у власти находится Батиста, никаких перспектив у Кубы нет.
Первая попытка свергнуть режим Батисты была предпринята 26 июля 1953 года, когда группа студентов во главе с Ф. Кастро попыталась поднять восстание во втором по значимости городе Кубы – Сантьяго. Кастро был арестован и осужден на 15 лет. Однако в 1955 году Батиста, стремившийся улучшить свой имидж и на Кубе, и за ее пределами, объявил об амнистии. После этого Кастро эмигрировал в Мексику, где вместе со своими единомышленниками продолжил подготовку к новому этапу борьбы с Батистой. В конце 1956 года группа молодых революционеров во главе с Кастро отплыла на шхуне «Гранма» из Мексики к берегам Кубы. Предполагалось, что одновременно с их высадкой на Кубе другая группа во главе с Ф. Паисом поднимет восстание в Сантьяго. Однако план этот не удался. «Гранма» не успела достичь Кубы к назначенному сроку, а когда повстанцы добрались до острова, то попали в засаду и большая часть их погибла в первом же бою. Подавлено было и восстание в Сантьяго.
Тем не менее группа повстанцев во главе с Ф. Кастро и Э. Че Геварой прорвалась в горы Сьерра-Маэстра и оттуда начала партизанскую войну против правительства. Сопротивление Батисте постепенно набирало все больший размах. Его главной ударной силой стала Повстанческая армия. Наиболее ожесточенные бои развернулись в мае 1958 года, тогда правительство Батисты, сконцентрировав все имевшиеся в его распоряжении силы, попыталось уничтожить восставших, не допустить распространения восстания на другие провинции. Однако на сей раз успех был на стороне восставших. В этих боях военная машина диктатуры была надломлена.
Чем больший размах приобретала борьба против Батисты, тем острее вставал вопрос о политической программе оппозиционных правящему режиму сил. В июле 1958 года в Каракасе (Венесуэла) собрались представители практически всех оппозиционных сил. Было объявлено о создании Гражданского революционного фронта, программа которого предусматривала свержение Батисты, передачу власти Временному правительству, которое должно подготовить проект новой Конституции, содержащей гарантии социально-экономических прав населения Кубы.
Куба была преимущественно аграрной страной, большая часть ее населения была занята в сельском хозяйстве. Аграрный вопрос стоял весьма остро. Когда в октябре 1958 года Кастро обнародовал решение о наделении землей малоимущих крестьян и ликвидации латифундий, симпатии крестьян были безоговорочно отданы повстанцам. В конце 1958 года они перешли в решающее наступление. Понимая, что крах неизбежен, Батиста бежал с Кубы. В Гаване вспыхнула всеобщая политическая стачка. 2 января 1959 года повстанцы вошли в Гавану.
Революция победила, но вопрос о власти, о характере ее политического курса оставался открытым. 3 января 1959 года главой Временного правительства был объявлен видный деятель умеренного крыла оппозиции М. Уррутиа, а главой правительства Х. Кордона. С другой стороны, сохранялась Повстанческая армия, которая контролировала реальное положение дел на местах. Таким образом, в стране изначально возникло двоевластие. Каждая из властей по-разному видела дальнейшее развитие событий. Не удивительно, что между ними быстро начали нарастать разногласия. Под давлением повстанцев была запрещена деятельность тех политических сил, которые сотрудничали с Батистой, они настаивали на проведении радикальной аграрной реформы, принятии современного законодательства в области трудовых отношений. В феврале 1959 года правительство Кордоны ушло в отставку. Его место занял Ф. Кастро.
Новое правительство сразу же заметно радикализировало всю социально-экономическую политику, полагая, что только резкий качественный скачок в этой сфере поможет Кубе преодолеть отсталость, модернизировать свое общество и выйти на современный уровень развития. Правительство Кастро повысило зарплату и одновременно снизило цены на коммунальные услуги. Но наиболее важным мероприятием этого этапа преобразований стал Закон об аграрной реформе от 17 мая 1959 года, ликвидировавший крупные земельные владения (больше 400 га). Этот закон стимулировал поляризацию сил в кубинском обществе. С этого момента США отбрасывают в сторону даже видимость сдержанности и открыто начинают поддерживать противников новой власти.
Все более откровенное вмешательство американцев, которых традиционно не любили в Латинской Америке, только консолидировало революционный лагерь, радикализировало и его руководство, и рядовых участников. В июле 1959 года в отставку ушел Уррутиа, новым президентом стал сторонник Ф. Кастро, О. Д. Торрадо. Революционные власти еще решительней пошли по пути углубления преобразований. Была введена монополия государства во внешней торговле. Стали создаваться Комитеты защиты революции, взявшие на себя охрану порядка. На предприятиях стал вводиться рабочий контроль.
Независимая политика Кастро стала восприниматься в Вашингтоне как представляющая угрозу интересам США. Был взят курс на экономическое удушение новой власти. Но это лишь подстегивало радикализм кубинских революционеров. В ответ на введение эмбарго на поставку нефти на Кубу Кастро объявил о национализации предприятий, принадлежавших США, и обратился к СССР с просьбой о поставках советской нефти. Тогда США практически полностью свернули свои торговые отношения с Кубой. Именно жесткий курс США толкал правительство Кубы на меры, носившие в своей основе антикапиталистический характер, о чем первоначально не было и речи. Уже к концу 1960 года общественный сектор занял ведущие позиции в аграрном производстве, да и в промышленности государство стало играть ключевую роль. В октябре были национализированы все крупные и средние предприятия, принадлежавшие национальному капиталу.
Тем временем в Вашингтоне быстро крепли позиции тех, кто полагал, что надо силой заставить Кубу вернуться на «правильный» (с точки зрения США) путь развития. В январе США разорвали дипломатические отношения с Кубой. В ответ Кастро декларировал, что революция на Кубе носит социалистический характер и кубинцы будут строить общество нового типа. Все это способствовало быстрому сближению Кубы с СССР, превращению ее в союзника нашей страны.
апреля 1961 года при поддержке США в районе Плайя-Хирон высадилось более полутора тысяч кубинских контрреволюционеров, намеревавшихся свергнуть правительство Кастро. Однако эта авантюра завершилась полным провалом и лишь еще больше подняла и без того очень высокий авторитет Кастро. Поскольку было очевидно, что США не оставят попыток свергнуть неугодное им правительство Кастро, по договоренности с СССР началось интенсивное укрепление обороноспособности Кубы. Это способствовало еще большей эскалации конфликта, кульминацией которого стал Карибский кризис (октябрь 1962 года), поставивший мир на грань неконтролируемого термоядерного конфликта.
Кризис, оказавший очень большое воздействие на всю международную жизнь, удалось урегулировать. Что касается его последствий собственно для Кубы, то, во-первых, стало ясно, что правительство Кастро достаточно прочно и уверенно контролирует ситуацию в стране и надежды на его падение беспочвенны, во-вторых, необходимым условием успешной модернизации общества стал все более тесный альянс с СССР, ибо без этого над Кубой постоянно висела угроза американской интервенции, в-третьих, сложившаяся ситуация детерминировала особенности кубинского варианта модернизации общества.
На первых порах Куба добилась значительных успехов в модернизации практически всех аспектов жизни общества. В сложившейся здесь системе революционной диктатуры в 60-е годы весьма ощутимо присутствовали черты «прямого народовластия», степень вовлеченности масс в общественную жизнь была очень высокой. Радикально изменилась и социально-экономическая структура общества. Место латифундий заняли «народные имения». Был взят курс на форсированное превращение Кубы из сугубо аграрной страны в аграрно-индустриальное государство. Правда, уже в середине 60-х годов от непродуманного форсажа этих процессов пришлось отказаться. Тем не менее прогресс в этой области несомненно был. Большое внимание уделялось решению социальных проблем: была ликвидирована безработица, Куба стала первой в Латинской Америке страной всеобщей грамотности, велось активное жилищное строительство, быстрыми темпами развивалось здравоохранение.
Однако к 80-м годам стали проявляться и определенные издержки кубинского варианта модернизации общества. Они были порождены как внешними, так и внутренними условиями. Начали снижаться темпы роста экономики. Все больше давали о себе знать хозяйственные диспропорции. Неблагоприятно складывалась внешнеполитическая конъюнктура, что больно ударило по всей финансовой системе страны и лишило Кубу тех средств, которые планировалось инвестировать в экономику. Большие средства отвлекались на поддержание на высоком уровне боеспособности вооруженных сил Кубы. Если в 60-е годы наблюдался подъем общественной активности населения, то к 80-м годам наметились негативные тенденции и в развитии политических механизмов: бюрократизация и коррупция. И, наконец, тяжелейшим ударом для Кубы стал распад СССР.
На рубеже 80-х – 90-х годов многие предрекали крах Кастро. Однако Куба выстояла и, несмотря на весьма серьезные трудности, продолжает отстаивать собственный вариант общественного прогресса, интенсивно ищет самобытные пути развития, пытается придать новый импульс начатому на рубеже 50-х – 60-х годов процессу модернизации.
Чили – неоконсервативный вариант модернизации
На протяжении всего послевоенного периода страны Латинской Америки интенсивно искали оптимальную модель модернизации своего общества. Если в 60-е годы латиноамериканское общество с напряженным вниманием следило за развитием социального эксперимента, начатого революционной Кубой, то в 70-е годы в центре внимания оказалось Чили. Это государство традиционно и по праву считалось одной из наиболее устойчивых демократий в Латинской Америке, страной со сравнительно развитой рыночной экономикой и сложившимся гражданским обществом. Были, конечно, и проблемы.
Еще в 60-е годы правительство, возглавляемое лидером христианских демократов Э. Фреем, предпринимало усилия для осуществления модернизации страны. При этом оно опиралось на классические реформистские схемы, апробированные ранее в Старом Свете. Однако начатые им реформы вызвали все более усиливавшуюся поляризацию общества, резко обострили все аспекты социально-политической жизни страны. В преддверии очередных президентских выборов был создан блок Народное единство, куда вошли коммунисты, социалисты, радикалы и Движение единого народного действия. Кандидат этого блока, социалист С. Альенде и был избран очередным президентом Чили. Произошло это 4 сентября 1970 года.
Как и большинство западных социалистов, Альенде полагал, что построение общества, основанного на началах социальной справедливости, возможно только эволюционным путем, за счет постепенного усовершенствования существующих социально-экономических отношений. Придя к власти конституционным путем, он рассчитывал апробировать свои теоретические установки на практике. Его правительство действительно сразу же приступило к осуществлению глубоких преобразований. Летом 1971 года были национализированы предприятия добывающей промышленности, банковская система. Под контроль государства была поставлена внешняя торговля. В сельском хозяйстве интенсивно создавались производственные кооперативы. Была повышена в среднем на 18 % заработная плата, увеличились ассигнования на социальное обеспечение, жилищное строительство, здравоохранение, образование.
Однако, как и любые мероприятия, серьезно затрагивающие интересы общества, ломающие привычный жизненный уклад, традиционные общественные связи, реформы правительства Альенде вызвали неоднозначную реакцию в стране. Политическая борьба резко обострилась. Усилилась поляризация общества. Поначалу оппоненты Альенде рассчитывали отстранить его от власти легальным путем. Однако выборы 1973 года не принесли правым необходимого большинства в парламенте. Тогда ставка была сделана на военный переворот. Правые использовали растущее недовольство средних слоев для дестабилизации ситуации. В июле 1973 года вспыхнула забастовка владельцев транспорта, парализовавшая снабжение население товарами первой необходимости, а в более широком смысле – всю экономику. У большинства населения возникла масса бытовых проблем, в которых они винили правительство. Еще недавно весьма популярное, оно быстро теряло контроль над ситуацией.
Этим и решили воспользоваться противники правительства в армейской среде. 11 сентября 1973 года заговорщики, возглавляемые генералом Пиночетом, подняли мятеж против законных властей. Альенде был убит. Власть в стране захватила военная хунта во главе с Пиночетом. В Чили было объявлено осадное положение. Было отменено действие Конституции, ликвидированы практически все демократические свободы, распущен конгресс, запрещены все партии, входившие в блок Народное единство. Деятельность остальных партий объявлялась «приостановленной». Профсоюзы были поставлены под контроль властей. Против сторонников прежнего правительства был развязан террор.
Все это оправдывалось необходимостью остановить сползание страны к хаосу и анархии. В марте 1974 года Хунта опубликовала «Декларацию принципов», в которой обосновывалась необходимость переворота (угроза установления марксистской диктатуры, неэффективность демократии в решении проблем модернизации страны). Намечались перспективы дальнейшей эволюции Чили, пути модернизации общества по консервативному образцу. Хунта высказалась за построение «органической» или «социальной демократии», основанной на корпоративных началах, под эгидой авторитарной власти. Морально-этической основой этого государства должно было стать христианство и испанские духовные традиции. В построениях Пиночета национализм теснейшим образом переплетался с модернистскими рецептами экономистов «Чикагской школы». Именно в соответствии с их идеями чилийский диктатор собирался осуществлять структурную перестройку экономики Чили, с тем чтобы вывести страну на передовые рубежи прогресса.
В соответствии с этими наметками частному капиталу была передана подавляющая часть государственных предприятий, причем под частным капиталом подразумевался и национальный, и иностранный. Вообще Пиночет был большим поклонником идеи о транснационализации экономики, полагая, что, влившись в общий поток модернизации мирового хозяйства, Чили автоматически выйдет на передовые рубежи. Действительно, Пиночет сделал Чили привлекательным для иностранных инвесторов. В аграрной сфере опять-таки наблюдалась ярко выраженная тенденция к отказу от коллективистских форм ведения хозяйства, при перенесении акцента на поощрение фермерских хозяйств. Правда, почти 1/3 претендентов на статус фермера разорились в течение пяти лет.
Модернизация «ala Пиночет», широко обсуждаемая на страницах ведущих мировых изданий, принесла чилийскому обществу противоречивые результаты. С одной стороны, в ряде отраслей промышленности (туда, куда устремился основной поток инвестиций) действительно был осуществлен значительный скачок вперед. Удалось стабилизировать валютно-финансовый механизм Чили, инфляция была взята под контроль. Однако вряд ли можно представлять эти факты как свидетельство того, что рецепты «Чикагской школы» обеспечили ускорение модернизации. Ведь, наряду с определенными достижениями в сфере экономики, у Хунты были очень серьезные проблемы. Так, по производству промышленной продукции на душу населения Чили было отброшено далеко назад. Консервативный вариант модернизации обернулся огромными социальными издержками. Прежде всего, заметно упала заработная плата, особенно в первые годы проведения консервативных реформ, в 10 раз увеличилась безработица. Правда, по многим параметрам социальная структура Чили стала к 80-м годам больше соответствовать стандартам развитых стран – сократилась доля занятых в аграрном секторе, выросло количество людей, работающих в непроизводственных отраслях, увеличилось число ИТР и т. д.
Столь противоречивые итоги консервативной модернизации не могли не сказаться на общей политической атмосфере в стране. Если в 1973 году значительная часть средних слоев, мелкой буржуазии, государственных служащих, уставших от нестабильности, поддержала Хунту, олицетворявшую порядок, стабильность и твердую власть, то, ощутив на себе «плоды» модернизации по рецептам «Чикагской школы», они стали испытывать все большее недовольство сложившимся порядком вещей. Несмотря на то, что возможности для легальной оппозиционной деятельности в Чили в те годы были предельно ограничены, на рубеже 70-х – 80-х годов наблюдается оживление всего оппозиционного спектра.
В 1979 году Пиночет был вынужден разрешить деятельность низовых профсоюзных организаций. Очень быстро они перешли под контроль левых сил. Начались трудовые конфликты, в которых в 1979–1980 гг. участвовали десятки тысяч человек. Чувствуя, что социальная поддержка его режима сокращается, Пиночет заявил о либерализации и переходе к «авторитарной демократии». Был разработан и 11 сентября 1980 года вынесен на плебисцит проект Конституции. Иными словами, был взят курс на институционализацию режима. Его положение осложнялось из-за начавшегося экономического кризиса. В этих условиях говорить об успехах модернизации было достаточно сложно. Давление на Пиночета все больше нарастало.
Правда, в среде оппозиционных сил не было единства по поводу того, как следует бороться с режимом. К 1983 году сформировалось два оппозиционных центра: Демократический альянс (ведущую роль в нем играли христианские демократы) и Народно-демократическое движение (компартия и другие левые силы). Первые надеялись на восстановление демократии без использования насильственных методов борьбы с режимом. Вторые отстаивали курс на свержение диктатуры с помощью массовых действий. В 1983–1986 гг. левые предприняли настойчивые усилия, чтобы свалить режим Пиночета. Однако добиться этого они не сумели. С одной стороны, начавшийся с 1985 года экономический подъем позволил Пиночету улучшить свой имидж в глазах значительной части общества. С другой, ему пришлось налаживать диалог с умеренным крылом оппозиции и идти на определенное реформирование политической сферы.
В марте 1987 года была в полном объеме разрешена деятельность политических партий умеренной ориентации. В следующем году был воссоздан Унитарный профцентр трудящихся Чили. Был назначен плебисцит о продлении полномочий Пиночета еще на 8 лет. Несмотря на все ухищрения властей, более 50 % его участников отказали Пиночету в доверии. После этого он вынужден был назначить президентские выборы на 14 декабря 1989 года, причем сам он заявил, что не будет баллотироваться на этот пост. На них победил лидер ХДП П. Эйлвин. Период диктатуры закончился.
Если кубинский вариант позволил решить многие социальные проблемы, но не сумел создать экономические механизмы, работающие с должной эффективностью, то в Чили модернизация позволила добиться определенных успехов в сфере экономики, но оказалась неприемлемой для большей части общества в социальном плане.
Мексика: реформистский вариант модернизации
После бурных революционных событий начала века Мексика достаточно уверенно вступила на путь эволюционного развития. Страна не знала серьезных социально-политических катаклизмов, столь характерных для большинства стран Латинской Америки. Там внимательно следили за различными попытками осуществления модернизации, но предпочитали идти своим путем, в рамках тех традиций, которые утвердились в стране. Главное, правящая элита стремилась любой ценой избежать разных политических шараханий, способных столкнуть общество с эволюционного пути развития.
Еще в 1958 году Мексика вышла на первое место в Латинской Америке по общему объему промышленного производства. Решающую роль в успешном экономическом развитии страны играл достаточно мощный государственный сектор. На долю государства приходилось более 40 % всех капиталовложений в стране. К середине XX века Мексику уже вполне можно было относить к индустриально-аграрным странам. В политической жизни лидирующие позиции занимала Институционно-революционная партия (ИРП). Несмотря на длительное пребывание у власти, эта партия не утратила чувства времени и вкуса к проведению реформ.
В конце 50-х годов новый импульс получили преобразования в аграрном секторе. Опять-таки весьма активную роль в этом процессе играло государство, вкладывавшее значительные средства в модернизацию всех сфер аграрного сектора. В результате техническая оснащенность сельского хозяйства значительно возросла, в нем стали использоваться современные технологии. Что касается развития промышленности, то здесь необходимо отметить, что все послевоенные правительства стремились привлечь в Мексику иностранный (прежде всего американский) капитал. Вместе с тем большое внимание уделялось укреплению позиций национального капитала и государства в индустриальном секторе экономики. Правительственная политика способствовала стабильному, динамичному развитию промышленности. В 60-е годы ежегодные темпы роста ВВП достигали 7 % – достаточно высокий по мировым меркам уровень.
Кубинская революция, имевшая огромный резонанс в Латинской Америке, побудила мексиканский истеблишмент обратить самое серьезное внимание на социальную сферу. Президент Л. Матеос заявил, что будет стремиться к утверждению в Мексике принципов социальной справедливости. Была резко расширена система социального обеспечения, внедрялась практика участия рабочих в прибылях, почти в 2 раза выросла заработная плата. Это позволило поддерживать в сфере трудовых отношений стабильную ситуацию и избегать серьезных катаклизмов, а также нейтрализовать влияние левых сил.
Как и для многих на Западе, для правящих кругов Мексики во многом неожиданным оказался взлет радикального студенческого движения. В 1968 году по крупнейшим городам страны прокатилась волна студенческих выступлений. 20 октября 1968 года дело дошло до кровопролитного столкновения с полицией, приведшего к многочисленным жертвам. Для страны с устойчивым развитием это было явно аномальное явление, но оно продемонстрировало, что власти, не отказываясь от реформистского курса, готовы к жесткому, силовому варианту развития событий.
Не принимая кубинского варианта модернизации, Мексика вместе с тем весьма скептически относилась и к чилийскому опыту. Правящая элита Мексики твердо придерживалась либерально-реформистского варианта развития. Серьезным подспорьем для Мексики стал энергетический кризис 1973–1974 гг., когда резко выросли цены на нефть, что позволило укрепить финансовое положение страны, ее репутацию одного из лидеров Латинской Америки. Другим следствием этого процесса стало укрепление позиций национального капитала, рост его престижа и влияния на все сферы жизни общества. Правительство не могло не учитывать этих изменений. Занявший в 1976 году президентское кресло Х. Л. Портильо, вместо построения общества социальной справедливости, выдвинул на первый план идею «союза ради производства», т. е. консолидация общества, укрепление принципов социального партнерства ради увеличения темпов общественного прогресса. Вплоть до начала 80-х годов этот курс приносил солидные политические дивиденды: Мексика уверенно продвигалась вперед, улучшая качество жизни, повышая эффективность всех общественно-политических механизмов, демонстрируя оптимальное сочетание стабильности и динамизма.
Серьезным испытанием для этой политики стал кризис 1982–1983 гг. Столкнувшись с ним, Мексика была вынуждена обратиться за помощью к МВФ. Ее предоставление было обусловлено несколькими требованиями. Суть их сводилась к тому, что государству следует резко сократить свое присутствие в сфере социально-экономических отношений, передав инициативу частному капиталу. Под давлением МВФ в Мексике в 1984–1985 гг. начался массовый процесс приватизации государственной собственности, серьезные коррективы были внесены в бюджетную политику, прежде всего сократилось субсидирование социальной сферы. Правительство сняло многие ограничения на деятельность иностранного капитала.
Как и везде, следование рецептам МВФ принесло противоречивые результаты. Да, удалось преодолеть последствия кризиса. С 1984 года возобновился рост экономики. Но какой ценой это было достигнуто? Резко возросла безработица. Начал стремительно расти внешний долг, а следовательно, и зависимость от внешнего мира, прежде всего от США. Обострились социальные проблемы и социальная напряженность. Мексику стало лихорадить из-за постоянных конфликтов в сфере трудовых отношений.
Все это оказало серьезное воздействие на политическую жизнь Мексики и прежде всего на правящую партию. В ее рядах возникло сильное течение левого толка во главе с К. Карденасом, резко критиковавшим новую политику правящей партии. Насколько эта критика нашла отклик в сердцах мексиканцев, стало ясно после того, как были обнародованы итоги выборов 1988 года. Их с полным основанием можно назвать сенсационными. ИРП вместо привычного подавляющего большинства получила чуть более 50 % голосов. В Палате депутатов за ней осталось 263 места (из 500). Возглавляемый К. Карденасом Национальный демократический фронт, созданный в преддверии выборов, сразу получил более 30 % голосов избирателей и 136 мест в Палате депутатов.
Тем не менее новый президент Мексики К. Салинас де Гортари продолжал действовать в русле тех рецептов, которая отстаивала «Чикагская школа». По его инициативе 3/4 государственных предприятий было передано в частные руки. Удалось добиться некоторого сокращения внешнего долга. Правительство проводило политику сдерживания роста цен и сокращения налогов. В 1992 году было разрешено передавать в частную собственность земли, принадлежавшие крестьянским общинам. В социально-политической сфере новый президент выдвинул концепцию «социальной либерализации», призванную соединить идеалы свободы и социальной справедливости. Хотя президент постоянно подчеркивал социальную направленность реформ, именно в этой сфере его достижения были наиболее скромными. Рост экономики не принес улучшения в положении основной части населения. Добиться ощутимого подъема уровня жизни не удалось. Более того, после очень долгого перерыва Мексика стала ареной взлета экстремизма. В январе 1994 года вспыхнуло вооруженное восстание индейцев, а в марте на предвыборном митинге был убит видный политический деятель Мексики Л. Колосио.
В 90-е годы в политической жизни Мексики большой популярностью стали пользоваться идеи интеграции страны с более мощными северными соседями – США и Канадой. Мексика рассчитывала в этом проекте занять важную и перспективную позицию связки между наиболее развитыми странами и весьма перспективными, но пока догоняющими странами Южной Америки. В 1992 году было принято решение создать Североамериканскую зону свободной торговли. С заключением этого договора различные политические силы связывали самые разные надежды. Пока еще трудно давать ему оценку. Правительство Мексики, однако, изначально стремилось сбалансировать свои внешнеполитические ориентации прежде всего за счет расширения контактов со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Принесет ли это ожидаемые результаты, сказать сегодня трудно.
Зато очевидно другое: все самые разные по своей сути попытки стран Латинской Америки вырваться на передовые позиции общественного прогресса не принесли ожидаемого результата. Пока латиноамериканскому обществу не удается выработать такие рецепты модернизации, которые бы позволили одновременно решить триединую задачу: создать эффективную, динамично развивающуюся экономику, решить унаследованные от прошлого социальные проблемы, ликвидировать зависимость от индустриально развитых стран мира, прежде всего от США. Решить эту сложнейшую задачу в XX веке им явно не удалось, однако поиски таких рецептов продолжаются, и именно это будет определять магистральные направления развития Латинской Америки в первые десятилетия нового, XXI века.
ЭКОНОМИКА ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В.Т. Рязанов
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ
Россия и Латинская Америка отделены друг от друга тысячами километров, находятся в разных полушариях земного шара, имеют серьезные геополитические и исторические отличия, тем не менее при более внимательном анализе обращает на себя внимание то, что в XX и в наступившем XXI в. в их экономическом и социально-политическом развитии обнаруживается немало совпадающих тенденций и проблем, что обусловливает целесообразность и полезность проведения соответствующих сопоставлений. В этой связи отметим такое обстоятельство: в сравнительном анализе экономики России в контексте мирового развития традиционно преобладают сопоставления с ведущими странами Европы, а также с США. Безусловно, учитывая одну только географическую близость с европейскими странами, которая предопределяет непосредственный контакт и взаимодействие национальных экономик, такой подход вполне оправдан и значим. Однако он не исключает возможности расширения диапазона сопоставления.
Общее в природе и результатах модернизационных процессов. В
чем полезность и возможность проведения сравнительного анализа социально-экономического развития стран Латинской Америки и России?
Виктор Тимофеевич РЯЗАНОВ - д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории СПбГУ. Окончил экономический факультет ЛГУ (1972) и аспирантуру (1978). С 1968 г. работает в ЛГУ, с 1972 - на экономическом факультете. В
1989-1994 гг. - декан факультета, с 1995 г. - зав. кафедрой. Автор более 140 научных работ, в том числе 11 монографий (4 индивидуальных и 7 коллективных: руководитель авторских коллективов, автор, соавтор). Монография «Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в Х1Х-ХХ вв.» (СПб., 1998) издана при финансовой поддержке РГНФ. Научные интересы: теория экономического развития России, макроэкономические и институциональные проблемы переходной экономики. Избран действительным членом Академии гуманитарных наук и РАЕН. Заслуженный работник высшей школы РФ.
© В.Т. Рязанов, 2005
Прежде всего надо отметить значительное совпадение в целях и задачах социально-экономического развития, которые стояли и стоят перед российским и латиноамериканскими государствами. В настоящее время РФ и большинство стран Латинской Америки (ЛА) образуют «второй эшелон» в мировом модер-низационном процессе. Россия вступила в процесс индустриальной модернизации с конца XIX в. Не случайно Т. Шанин назвал ее «первым развивающимся обществом», начавшим эру ускоренной индустриальной модернизации в мире. Что же касается ЛА, то она стала первым регионом в образовавшемся в XX в. «третьем мире», который встал на путь экономической модернизации. Это случилось после мирового кризиса 1929-1933 гг., когда в указанном регионе произошел отход от модели торгово-аграрного развития и начались активные процессы индустриализации.
Отметим также и то, что в ЛА находится ряд крупных стран, которые, как и Россия, могут рассматриваться в качестве примера функционирования «больших хозяйственных пространств» со своими специфическими проблемами. В «десятку» самых крупных стран мира входят две страны из этого региона - Бразилия и Аргентина. (Для сравнения: по территории Бразилия почти в 15 раз превышает Францию как самое крупное западноевропейское государство, а по населению - в 3 раза.) Причем в настоящее время Бразилия вполне сопоставима с РФ и по масштабам экономики. Если в РФ на территории в 17 млн кв. км проживает 146 млн человек и в 2000 г. было произведено ВВП в 251 млрд долл., то в Бразилии на территории в 8,5 млн кв. км проживает 170 млн человек и в этом году был создан ВВП объемом в 595,5 млрд долл. (в обоих случаях - в переводе по текущему курсу обмена национальных валют на доллар). Кроме того, по данному показателю еще две латиноамериканские страны смогли опередить Россию - Мексика (ВВП равнялся 574,5 млрд долл.) и Аргентина (285 млрд долл.).° Еще более важным обстоятельством является то, что в ЛА и в России в XX в. отрабатывались, хотя и не совпадающие в полной мере, вместе с тем достаточно близкие по своему духу, содержанию и целям, модели модернизации. Речь, в частности, идет о таких важных ее элементах, как:
Ориентация на форсированное развитие индустриализации и урбанизации с одновременным задействованием реформ политических и экономических институтов;
Опора на идеологию догоняющего развития, которая особенно была характерна для большинства стран ЛА;
Возникновение определенной цикличности и последовательности в чередовании реформ и контрреформ. Так, в ЛА цикличность относилась к смене вариантов популистско-этатистских и либерально ориентированных моделей экономической модернизации, а также демократических и авторитарных режимов политической власти. В России (СССР) она была связана со сменами моделей модернизации в условиях капиталистического и социалистического развития;
Действие общей закономерности в переходе от импортозамещающей модернизации к экспортноориентированным;
Наличие совпадений в конкретных деталях социально-экономического развития ЛА и России, например ставка на наращивание нормы накопления в
ВВП, активное использование рычагов государственного воздействия на экономику, высокая доля госсектора, использование протекционистского режима хозяйствования и т. п.
Использование модели догоняющей индустриализации опиралось на три ключевые идеи. Первая из них связана с гипотезой об универсальности развития. В соответствии с ней при признании особенностей каждой страны и разных континентов тем не менее предпочтение отдается всеобщим закономерностям и даже общим этапам, через которые проходят все страны. Как самый характерный пример, это концепция У. Ростоу о пяти (затем шести) стадиях экономического роста, последовательно сменяемых в ходе экономической модернизации.
Вторая идея, содержащаяся в стратегии догоняющего развития, - это трактовка тех конечных рубежей, которые должны быть достигнуты в процессе ее осуществления. Формально они звучат как переход от «традиционного» к «современному» обществу. Но при этом «современное» определяется как типичное западное общество, возникшее в недрах европейской цивилизации, а затем распространившееся по миру в виде соответствующих моделей развития или хотя бы отдельных его ценностей и целей. Аргументами, подтверждающими данное обстоятельство, считаются в первую очередь те экономические и военно-политические преимущества, которыми располагают страны Запада благодаря своим коренным качествам, отличающим их от традиционных обществ. К ним относят: доминирование индустриализма в экономике, урбанизм как господствующий образ жизни, преобладание инноваций над традициями, представительско-демократическая система власти, светский характер общественной жизни и др.
Третья идея, образующая смысловой каркас догоняющего развития, связана со ставкой на возможность и, более того, эффективность использования механизма заимствования и копирования уже отработанных экономических моделей с тем, чтобы достигнуть положительных результатов модернизации.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод: при таком подходе сложный и противоречивый процесс модернизации общества и хозяйства предстает как сугубо технократический проект с набором стандартных приемов обеспечения требуемых сдвигов в обществе и экономике.
Возникшие совпадения в использовании модернизационных стратегий в развитии наших стран, по-видимому, достаточно закономерно проявились в похожих достигнутых результатах, которые можно определить как «полу-успех». С одной стороны, страны ЛА и Россия благодаря своим реформационным усилиям смогли войти в «зону развития», устранив в ряде случаев существенные разрывы с ведущими экономическими державами. С другой стороны, эти страны так пока и не смогли попасть в лидирующую группу высокоразвитых стран. Но главное даже не в этом. Более существенным фактом является то, что до настоящего времени у них не сформировалась устойчивая национальная модель хозяйствования, обладающая способностью к самоподдерживающемуся росту и перспективная с точки зрения последующего укрепления конкурентных позиций в мировой экономике. И это весьма серьезная проблема, означающая, что страны по-прежнему продолжают находиться в поиске выбора наилучшей общественно-экономической системы.
ВВП на душу населения в России (СССР) и в странах Латинской Америки
(1900-2000 гг.)
Страны 1900 г. 1938 г. 1950 г. 1970 г. 1990 г. 2000 г.
Россия/СССР/РФ 1218 2150 2834 5569 11505 7294
Аргентина 2756 4072 4987 7302 8534 11254
Бразилия 704 1291 1673 3067 6021 6837
Венесуэла 821 4144 7424 10827 5438 5468
Колумбия 973 1843 2089 3104 5333 5715
Мексика 1157 1380 2085 3774 6946 8291
Перу 817 1757 2263 3807 3341 4320
Чили 1949 3139 3827 5217 5794 8966
Мир в среднем 1305 1923 2238 3964 5993 6989
Примечание. В 1900-1970 гг. ВВП на душу населения рассчитан А. Маддисоном в постоянных ценах в долларах 1990 г. (Maddison A. Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris, 1995). Данные за 1990 и 2000 гг. представляют собой ВВП на душу населения в долларах США (1996 г.) по паритету покупательной способности валют. Среднемировой уровень рассчитан по 56 наиболее крупным странам всех континентов (см.: Красильщиков В.А. Латинская Америка сегодня - Россия завтра / / Мир России. 2002. № 1. С. 61, 64, 82).
Как видно из таблицы, Россия (СССР) и ведущие страны ЛА в XX в. развивались неравномерно по отдельным его периодам, но в целом достаточно синхронно. Для России (СССР) наилучшим периодом по достигнутым результатам был период с 1950 по 1970 г., когда величина ВВП на душу населения в стране практически удвоилась и она в 1,4 раза превышала средний мировой уровень. Это стало наивысшим достижением отечественной экономики. Особо трудные времена для российской экономики наступают в 1990-е годы, когда произошло почти двукратное падение ВВП в результате кризиса 1990-1998 гг.
И для основных латиноамериканских стран период 1950-1970 гг. также оказался весьма успешным. За это время величина ВВП на душу населения в целом по семи этим странам увеличилась более чем в 1,5 раза (с 3478 до 5300 долл.), на 1/3 превысив среднемировой уровень. В 1980-1990-е годы экономика ЛА заметно притормозила свое движение, также растеряв потенциал динамического развития. Причем в 1980-е годы в большинстве стран этого региона произошло падение производства ВВП на душу населения, а в некоторых из них упал и физический объем ВВП. Его рост возобновляется в
1990-е годы. В этот период увеличение его значения на душу населения составило по семи странам 22% (с 5915 до 7264 долл.). Причем по отдельным странам он оказался неравномерным. Более высокими темпами развивались Чили и Аргентина.
В чем истоки нерешенности и все еще неокончательности модернизацион-ного процесса в России и Латинской Америке? Различаются ли они или совпадают в странах, столь географически отдаленных друг от друга?
Общей характеристикой для анализируемых стран, во-первых, является сохранение неустойчивости социально-экономического развития, при которой они периодически попадают в зоны разрушительных экономических и политических потрясений, что нарушает целостность складывающихся моделей хозяйственного и общественного устройства стран.
Во-вторых, в ходе осуществления модернизационных проектов возникали и сохраняются острые противоречия и конфликты, обусловленные огромными разрывами в уровне и образе жизни различных социальных слоев общества, нарастанием социального напряжения в обществе. Это прежде всего касается стран ЛА, которые на протяжении всего XX в. так пока и не смогли разрешить острые социальные проблемы, связанные с бедностью и нищетой, безработицей и огромной социальной дифференциацией. В России социальная ситуация в 1990-е годы пошла по латиноамериканскому сценарию.
В-третьих, использование стратегии догоняющей модернизации с ее ориентацией на заимствование чужого (западного) опыта как в России, так и в странах ЛА столкнулось с их социокультурным своеобразием, которое хотя и с разной степенью, но в целом не соответствует системе ценностей западно-капиталис-тической цивилизации. Такие качества, как общинность, коллективизм, склонность к традициям, государственный патернализм, религиозный консерватизм, представленный в России православием и исламом, а в Латинском мире католицизмом, создавали заслон на пути проникновения системы хозяйствования, основанной на индивидуалистической психологии и капиталистических принципах. Поэтому попытки модернизационных элит их демонтировать, относясь к ним как к «пережиткам прошлого», встречали нарастающее сопротивление со стороны большинства общества как отражение защитной цивилизационной реакции. Одновременно формировался новый узел противоречий - между правящей элитой, стремящейся реализовать заимствованный вариант модернизации, и большей частью общества, сохраняющей приверженность исторически сложившимся социокультурным ценностям.
В-четвертых, страны, использовавшие стратегию догоняющего развития, не могли не столкнуться с ситуацией, при которой ее достаточно закономерным результатом становится попадание в режим «зависимого развития». Его характерной чертой выступает «имитационная» природа формируемой модели экономики, а наиболее зримым внешним признаком - рост колоссальной внешней задолженности (а значит, и зависимости от кредиторов), свидетельствующий о рождении специфического и ранее теоретиками многих школ не прогнозируемого явления в рамках капиталистической хозяйственной системы - «периферийного капитализма». Данный вид капитализма характерен для политически независимых стран, в которых уже сложились соответствующие принципы хозяйствования и удалось продвинуться в экономическом развитии, но при этом они не обладают высокой эффективностью и уступают в конкурентоспособности лидирующим экономикам, выполняя подчиненную и обслуживающую функцию в отношении господствующего центра. ЛА стала первым масштабным регионом и самым ярким подтверждением реальности возникновения такого «недозревшего» капитализма не как кратковременного эпизода в переходе к его развитой фазе, а как исторически устойчивого и застойного явления в долгосрочном периоде.
В этой связи интересен такой любопытный факт. В конце XIX в. на опасность периферизации экономики указывали русские народники (В.П. Воронцов, Н.Ф. Даниельсон), и это была принципиально новая постановка проблемы развития. Такие выводы они сделали в спорах о судьбе первого наступления
капитализма в нашей стране. Именно тогда Россия впервые столкнулась с проблемами нехватки капитала и ростом внешней задолженности, которые обострялись в условиях растущего вывоза отечественного капитала из страны. В последние десятилетия XX в. своеобразную эстафету от русских экономистов подхватили их латиноамериканские коллеги, такие как Р. Пребиш, С. Фуртадо, Ф. Кардозу и многие другие, которые активно разрабатывают концепцию зависимого и периферийного развития применительно к современному этапу. И сегодня уже российским экономистам следует более внимательно обратиться к анализу трудов этих экономистов с тем, чтобы успешнее решать задачу вывода экономики России из тупиковой ситуации развития.
Неолиберальная волна реформирования и ее результаты. Наличие совпадающих черт в модернизационных процессах в нашей стране и в странах ЛА, возникающих на протяжении всего XX в., подтверждает неслучайность общего вступления в новую фазу реформирования, на сей раз неолиберального, хотя оно и не совсем совпадает по времени в разных странах. Продолжающееся использование устаревшего варианта индустриально-догоняющей модернизации даже в условиях попыток перехода от импортозамещающей к экспортноориентированной модели развития с сильным государственным вмешательством означала фактическую исчерпанность преобразовательного потенциала, содержащегося в ней, и требовала перехода к новой модели развития. Причем причинами общей неудачи в переходе латиноамериканских стран, а также СССР к экспортноориентированной модели развития стали до конца не преодоленные препятствия в обеспечении опережающего экспорта готовой и конкурентоспособной продукции, что консервировало политику импортозамещения в развитии или ориентировало экономики на экспорт сырья. Что же касается предложенной ЭКЛА идеи образования «общего рынка» в ЛА, который позволил бы создать исходные предпосылки для благоприятствования в развитии производства и экспорта готовой продукции в своем регионе, то она в силу многих причин не была в полной мере осуществлена. С этой стороны возникновение СЭВ для советской экономики закладывало более приемлемые условия для реализации курса на растущий экспорт готовой продукции, хотя и они не были использованы с высокой эффективностью для нас.
"Становление постиндустриальной экономики с изменившейся технико-тех-нологической структурой производства и появлением новых факторов и стимулов роста, которое начинается в последней трети XX в. в развитых странах, не могло не усилить падение эффективности традиционных методов индустриального развития. К тому же происшедшие в мировой экономике «нефтешоки» и нарастающий отток капитала из развивающихся стран дополнительно влияло на потребность в смене модели экономической модернизации. Выбор в качестве нее неолиберальной версии отражал зародившуюся еще в конце 1970-х годов в развитых капиталистических странах общемировую волну либерализации экономики. Ее внедрению в модернизационную стратегию способствовал как кризис старой модели развития с сильным государственным вмешательством, так и фактическое отсутствие на тот момент новых альтернативных неолиберализму идей и моделей преодоления социально-экономического отставания. При этом следует иметь в виду, что неолиберальная модель реформиро-
вания в латиноамериканском регионе реализовывалась раньше, чем в России, и полученные ее результаты могут быть полезными для социально-экономического прогнозирования в нашей стране.
Если оценивать их, то нельзя не видеть ряд важных экономических сдвигов, которые произошли в ЛА в последние 15-20 лет. Так, восстановился экономический динамизм, темпы роста ВВП в 1990-е годы в этом регионе увеличились до 3,3% среднем в год и 1,5% в среднегодовом исчислении на душу населения. В эти годы страны региона заметно продвинулись вперед в модернизации сферы финансов, информатизации и развитии телекоммуникаций. Удалось приостановить инфляцию и оздоровить финансовую систему.
Существенным моментом стало и то, что в этот период ЛА удалось заметно продвинуться к экспортноориентированной модели развития. Об этом свидетельствуют превышение роста экспорта в регионе в период 1990-2001 гг. более чем в два раза (при среднегодовом его значении в 8,9%) в сравнении с ростом ВВП. В результате к 2001 г. экспорт из латиноамериканских стран равнялся 391,4 млрд долл. (в 1990 г. - 161,4 млрд долл.), а экспортная квота почти удвоилась, достигнув величины в 20,4%. Все это позволяло надеяться на то, что экспортное производство превратится в «локомотив развития». Однако этого не произошло в силу ряда причин. Во-первых, еще большими темпами в этот период рос импорт (среднегодовой рост составил 11,6%), что осложняло ситуацию с платежным балансом стран.
Во-вторых, увеличение притока иностранных инвестиций привело к тому, что их доля в инвестиционной квоте возросла до 20-25%. В условиях сохранения инвестиционной активности привлеченные капиталы обеспечивали достаточно высокую норму накопления в 22% от ВВП (при доле национальных сбережений в 18%), что позволило добиться увеличения темпов развития. Однако к концу XX в. эта активность затухает, соответственно норма накопле-ни^падает до 19% ВВП и для экономики ЛА наступают более трудные времена. Это означает, что далеко не любое привлечение иностранного капитала, даже в форме прямых инвестиций, имеет долгосрочный эффект для стран, его импортирующих.
Наконец, обратим внимание и на такую принципиальную деталь, связанную с ограниченностью возникшей экспортноориентированной модели экономики. Дело в том, что развитие экспорта готовой продукции основывалось на активном подключении к процессам глобализации через привлечение крупных ТНК, которые создавали свои филиалы в ЛА в расчете на дешевую рабочую силу и другие благоприятные факторы. В результате созданный сектор готовой продукции приобрел «анклавный» характер, нацеленный на обслуживание мирового хозяйства (и ТНК), но фактически выпадающий из национального воспроизводственного контура. И вообще следует иметь в виду, что ставка на «отверточ-ное» производство сама по себе малоэффективна. Об этом надо помнить нынешним российским реформаторам, которые, похоже, делают аналогичный выбор, если судить по принятым решениям в области автомобилестроения. В этом случае следует учитывать одно ключевое отличие экономики России от экономики ЛА. Дело в том, что национальные сбережения в нашей стране превышают 30~32% от ВВП, т.е. они почти в 2 раза выше, чем в латиноамери-
канском регионе. Это означает, что у нас есть реальная возможность в создании (во многих случаях - воссоздании) полноценного собственного сектора готовой, наукоемкой продукции. В такой ситуации государственная поддержка «отверточного» производства, особенно там, где имеются собственные заделы, способна окончательно разрушить национальное производство и его воспроизводственную целостность.
Противоречивость достигнутых результатов неолиберальных реформ в ЛА проявилась и в других более традиционных зонах их уязвимости и ограниченности. Даже опыт реформирования Чили, которая традиционно выставляется в качестве страны, добившейся образцовых достижений, не столь впечатляющ, если их сравнивать со странами других быстро развивающихся регионов. Так, в период 1975-1985 гг. среднегодовые темпы роста ВВП Чили составили 3,5%, в течение которого экономический рост сочетался со спадом в период 1982- 1983 гг. (Для сравнения: экономический рост в КНР в более длительной перспективе в 1978-2004 гг. составил 9,4% в среднегодовом исчислении.) При этом почти в три раза возросла внешняя задолженность Чили (с 6,7 до 19 млрд долл.), а экономическое развитие сопровождалось общим падением реальной заработной платы. Характерно и то, что либеральный экономический курс в Чили реализовывался в условиях проведения более осторожной и взвешенной политики приватизации государственного имущества в сопоставлении с РФ. В руках государства сохранился контроль за стратегически важными отраслями для страны (в частности, за добычей и переработкой медной руды как основной в тот период экспортной отрасли). Поучительным фактом, полезным и для нас, является то, что в период экономического кризиса (1982-1983 гг.) либеральное чилийское правительство не побоялось пойти на пересмотр итогов предшествующего этапа приватизации, национализировав ряд частных предприятий и банков, когда эти предприятия не смогли обеспечить эффективную работу. Принципиально важно и другое обстоятельство, связанное с тем, что более существенные результаты экономического развития в Чили были получены после ухода Пиночета (в 1989 г.), когда была восстановлена демократия в стране, а экономический рост наконец смог способствовать сокращению уровня бедности.
В целом же по региону, несмотря на неплохой в сравнении с рядом других регионов мира рост экономики в 1990-е годы, величина ВВП на душу населения в ЛА лишь в 1997 г. превысила уровень 1980 г. Более того, конец столетия в регионе был отмечен спадом и застоем на континенте в целом. Многие латиноамериканские страны испытали крупные финансовые потрясения, к примеру, Мексика - в 1994-1995 гг., Бразилия - в 1997-1998 гг., Аргентина - в 2001-2002 гг. Иначе говоря, неолиберальные реформы оказали на экономический рост лишь временное стимулирующее воздействие, а значит, в очередной раз и они не привели к возникновению устойчивой модели самоподдержи-вающего роста.
Еще более существенным обстоятельством является то, что странам этого региона в процессе неолиберального реформирования не удалось принципиально преобразовать устаревшую индустриальную структуру экономики, а значит, добиться восстановления и укрепления своих конкурентных позиций в миро-
вом хозяйстве. Этим только подтверждается не раз проявляющаяся закономерность, согласно которой рыночные механизмы не в состоянии обеспечить назревшие крупные структурные сдвиги в народном хозяйстве, во всяком случае, в приемлемые для реформируемых стран сроки. Именно данное обстоятельство выступает главным препятствием, мешающим перейти к модели устойчивого роста. Поэтому и в современной России, решая задачу наращивания экономической динамики, необходимо учитывать наличие зависимости возникновения модели самоподдерживающего роста от реального проведения структурной перестройки народного хозяйства.
Важно выделить и такой принципиальный момент: социально-экономическое развитие латиноамериканского региона в период проведения неолиберальных реформ не привело к устранению традиционных недостатков в осуществлении модернизационного процесса, к которым следует отнести продолжающееся нарастание внешней задолженности, сохраняющийся высокий уровень бедности и чрезмерную социальную дифференциацию, нерешенную проблему безработицы.
Так, в 1990-е годы внешний долг вырос в Аргентине с 61 до 145 млрд долл., Бразилии - со 123 до 240, Мексике - со 116 до 161, в Чили - с 17 до 34 млрд долл. Всего же ЛА к 2003 г. задолжала около 744 млрд долл. (в 1995 г. долг составлял 625 млрд долл.). Социальная деформированность экономического роста проявилась в том, что он сопровождался не увеличением, а сокращением занятости. В результате безработица в латиноамериканском регионе не опускалась ниже 8-9% (в городах), а в периоды ухудшения хозяйственной ситуации она могла резко подскочить (к примеру, в Аргентине в 2001 г. безработица превышала 18%).
Не улучшилась ситуация в регионе и с уровнем бедности. Даже сегодня в ЛА свыше 200 млн человек должны быть отнесены к категории бедного населения, а это более 1/3 населения, причем почти половина из них живёт в нищете. И конечно же, далеко не случайным социальным результатом является то, что в период активного проведения неолиберальных реформ дифференциация населения по доходам еще более возросла (за исключением Мексики). Так, в наиболее крупных странах данного региона среднедушевые доходы самых богатых 10% населения к самым бедным 10% населения превышают в десятки раз (в Бразилии - в 86,9 раза, Колумбии - 47,7 раза, Чили - 36,6 раза).15
То, что такой социальный результат неолиберального реформирования является не случайным, подтверждает опыт его российского использования. В современной России также не менее % населения оказалось в зоне социального неблагополучия, и даже в условиях продолжающегося экономического роста это оборачивается не сокращением, а консервацией и увеличением социальной дифференциации.
«Левый поворот» в Латинской Америке и проблема выхода из либеральной политики. Начавшийся раньше в ЛА неолиберальный цикл реформирования вполне закономерно подошел к своему финишу. Об этом свидетельствует не только обострение политической борьбы в регионе, но и независимая экономическая экспертиза. В частности, специалисты Межамериканско-
го банка развития в подготовленном ими в 2002 г. докладе сделали такой симптоматичный вывод: «Отказаться от реформ или найти путь их модификации - это наиболее острый вопрос, стоящий перед регионом».
После 15-20 лет реформирования уже в ряде стран ЛА (в частности, в Венесуэле, Бразилии, Аргентине, Доминиканской Республике, Боливии) произошел политический разворот и к власти пришли левоцентристские силы. Важно подчеркнуть, что такой «левый поворот» осуществился не через революционные перевороты, а демократическим путем в результате победы на выборах. Демократическое завоевание власти «новыми левыми» произошло под лозунгом выдвижения обновленной леводемократической платформы как современной постлиберальной альтернативы.
В целом же современную социально-экономическую ситуацию в ЛА можно охарактеризовать как уникальную. Речь идет о том, что сегодня в этом регионе непосредственно конкурирует чуть ли не весь возможный спектр парадигм развития - от экономики планово-социалистического типа с постепенным рыночным реформированием (Куба) до совершенствования и отладки либеральной экономической модели (Чили). Характерно то, что в данном случае свойство многовариантности и альтернативности развития реализуется не в гетерогенном пространстве, когда уже само своеобразие условий хозяйствования рождает множественность путей в экономике. Здесь же различающиеся экономические модели возникли при однородных цивилизационных, географических, экономических, ментальных и т. п. условиях, что только подкрепляет общий вывод о наличии многовариантности и альтернативности в реформировании и развитии как всеобщем свойстве.
Что же касается РФ, то нынешняя ситуация напоминает положение СССР в середине 1970-х годов, когда резкое повышение мировых цен на нефть сгладило остроту осознания исчерпанности устаревшей модели плановой экономики и необходимости ее коренного обновления. И в настоящее время благоприятная для нас конъюнктура на мировых рынках мешает правящей элите трезво оценить достигнутые результаты, возможности и пределы неолиберального реформирования. Свой выбор нынешняя власть сделала, как представляется, будучи непреложно уверенной в исторической перспективности либеральной модели экономики для нашей страны, ради достижения которой можно пожертвовать демократией, сложившимися хозяйственными традициями, менталитетом, социальным благополучием. Не пугает рыночных фундаменталистов даже вымирание населения ради окончательной победы либерализма. Подчеркнем, что отсутствие критической рефлексии на предшествующий этап реформирования - это признак идеологической ортодоксальности и ограниченности, при которой чужие модели и рецепты воспринимаются как абсолютные, не подвергаемые никаким сомнениям.
При этом сторонники либерального курса не устают доказывать, что он, несмотря на уже полученные неблагоприятные последствия в самых разных сферах, создает наилучшие условия для строительства эффективной (конкурентоспособной) экономики. Но так ли это? Происходящие изменения в ЛА свидетельствует об обратном. «Левый поворот» в этом регионе произошел не случайно, и он ясно показывает, что в реальности не существует так называемой «точки невозврата», которая трактуется ныне в категориях безальтернативнос-
ти либерализму. Пример ЛА свидетельствует о том, что и в РФ неолиберальная политика также носит исторически преходящий характер, а отказ от нее вполне возможен на демократической основе. Современное российское общество уже достаточно «устало» от либерализма и от его носителей, оно дозрело до своего «левого поворота».
Вместе с тем проблема выхода из либерализма и выбора эффективного альтернативного пути модернизации по-настоящему сложна и до конца еще не осмыслена. Либерализм легко критиковать, но значительно сложнее из него выходить, учитывая, к примеру, действие инерционности хозяйственно-политической системы, ослабленность экономики и т. п. Наконец, либеральная политика имеет свою логику и свою «правду». В этом случае единственная ставка на популизм с его преимущественно перераспределительной риторикой как самой простой защитной реакцией большинства населения на проводимую либеральную политику чревата возможными негативными срывами. Исторический опыт чередования волн либерализма и популизма, через который прошла ЛА, свидетельствует об его малоэфективности и его не следует повторять в России. Поэтому достижение задачи восстановления исторически и социально-экономически оправданного уровня справедливости и сглаживания социального неравенства - это своего рода программа-минимум, которая реализуется на первом этапе постлибераль-ного развития. При всей ее первоочередности и важности не должна недооцениваться более перспективная и сложная цель развития, связанная с обеспечением устойчивого и сбалансированного экономического роста при одновременном крупном структурном сдвиге в народном хозяйстве. По масштабности она соответствует решению задач из программы-максимум и сопоставима с ранее осуществленными программами индустриализации.
Однако этим не исчерпывается перечень ключевых задач, которые должны реализоваться в постлиберальный период. Чтобы превратить новую левую альтернативную парадигму развития в работающую и эффективную стратегию как в уже формирующейся новой ситуации в ряде стран ЛА, так и потенциально в РФ, необходимо продумать новые решения в самых разных областях. Рассмотрим некоторые из наиболее важных новых подходов на примере современной России.
Во-первых, левая постлиберальная альтернатива должна стать демократической как наиболее соответствующей интересам социального большинства. Это связано с тем, что РФ постепенно движется в сторону формирования «неорганичного» либерализма, при котором складывается внутренне несбалансированное, несопряженное соотношение между упорным развертыванием либерализма в экономике при последовательном свертывании институтов либеральной демократии и разворачиванием политической системы в сторону бюрократического авторитаризма с падающей эффективностью государственного управления, консервацией высокого уровня социального неравенства и растущей социальной напряженностью в обществе. Такой разворот является достаточно закономерным результатом проведения неолиберальной модернизации в странах периферии, в частности не раз он возникал в ЛА, превращая власть в проводника интересов местного олигархического капитала и крупного транснационального капитала.
Выдвижение левой демократической альтернативы важно и в качестве реакции на прошлый социалистический опыт, когда главный упор в экономике делался на организующую и социально-патерналистскую роль государства. Полномасштабное возвращение государства в экономику в виде массовой национализации и воссоздания крепкого госсектора в экономике, внедрения гос-регулирования и планирования, восстановления социальных функций государства и т. п. - все это ведет фактически к реставрации модели государственноперераспределительной экономики в новом обличье, скорректированной на более высокий уровень многоукладности и рыночности. Теоретически и практически такой вариант возможен, но в целом свой потенциал он уже исчерпал в виде советской модели экономики, которая доказала свои преимущества для этапа раннего индустриализма. Учитывать надо и то, что активное включение перераспределительного государственного механизма в уже сложившейся социально-экономической ситуации в стране с неизбежностью запускает тенденцию бюрократизации управления, рождая свою модель авторитаризма в экономике и политике.
Следовательно, современный выбор стратегии общественно-экономического развития страны необходимо искать на путях альтернативы как нынешнему либерализму, так и старому варианту государственной экономики. Левая демократическая альтернатива не просто дополняет либерализм в экономике, она основывается на гармоничном использовании демократических механизмов как в политике, так и в экономике. В этом случае демократический режим власти выступает не просто в качестве реализации своей представительской формы, а как система народовластия, обладающая такими чертами, как дееспособность, ответственность, антикоррупционность. Что же касается развертывания демократии в экономике, то оно предполагает борьбу с всесилием господства олигархии и бюрократии, установление общественного контроля за распределением и использованием произведенного в стране прибавочного продукта, внедрение институтов общественного самоуправления и самоорганизации хозяйственной жизни, обеспечение согласованности и сбалансированности экономических и социальных целей развития и т. п.
Во-вторых, новая левая альтернатива должна найти эффективный способ превращения своих самобытных качеств в конкурентные преимущества. Ведь они, как правило, рождаются из национального своеобразия стран. Для этого необходимо не консервировать самобытность как таковую, а усилить внимание к прагматической стороне ее использования. Эффективность такой стратегии, выработанной на ее основе, будет зависеть от решения разноплановых задач. Это - формирование «коллективной воли» в обществе в достижении поставленных целей преобразования и создание «национального стиля» управления, который отражал бы исторические традиции, адаптируя их к современной ситуации. Наконец, это и обеспечение своего набора потенциально перспективных направлений специализации производства в стране в целях укрепления конкурентных позиций в международном разделении труда и т. д.
В-третьих, новая левая альтернатива должна найти собственный ответ в реализации потребности перехода от традиционной модели индустриальной модернизации с уже исчерпавшимся потенциалом развития к новой модели, базирую-
щейся на императивах постиндустриализма.19 В настоящее время его разработка предполагает согласованное и опережающее развитие наукоемкого производства, информатизации, науки, образования и культуры. Причем решение данной задачи еще в большей степени связано с областью неизведанного. Ведь вопрос о том, насколько в принципе возможен переход от индустриальной к постиндустриальной модели экономики, используя модернизационные стратегии, - теоретически и практически остается открытым. В мире накоплен опыт более или менее успешных примеров индустриальной модернизации, но означает ли это, что он применим и к постиндустриализму? И не обречены ли такие страны на закрепление сугубо индустриальной специализации?
Данная проблема тем более важна для РФ, учитывая растущую роль экспортно-сырьевого сектора экономики, что оборачивается подавлением отраслей готовой продукции. Как показал опыт последних 10-15 лет, неолиберальная стратегия не в состоянии разрешить данную проблему в приемлемые сроки. Она обрекает нашу страну на длительную консервацию сырьевой модели и усиление зависимости экономики от действия внешних факторов. Чтобы реально ее развернуть в сторону современных постиндустриальных тенденций, Россия должна найти путь к постиндустриализации, соответствующий ее условиям и ограничителям, традициям и возможностям, не игнорируя, безусловно, зарубежный опыт. При этом целесообразно осмыслить собственную практику осуществления крупных народнохозяйственных программ, таких как ГОЭРЛО, индустриализация, послевоенное восстановление. По-видимому, и в настоящее время оправданна разработка аналогичной программы применительно к проведению постиндустриализации страны, которая подчинила бы общественную и хозяйственную деятельность всех субъектов производства целям ее проведения. И еще важен один урок из отечественного опыта решения крупных народнохозяйственных проблем. Важно, чтобы политика постиндустриализации, наконец-то, стала с «человеческим лицом», т. е. не осуществлялась бы за счет очередного ограбления большинства населения страны. Обращаясь вновь к демократической составляющей постлиберальной альтернативы, отметим, что она и в этом случае способна создать более действенные предпосылки для такого решения проблемы.
В заключение отметим, что разноплановый опыт экономической модернизации в Латинской Америке показывает его близость аналогичным процессам в России. В настоящее же время такой опыт особенно полезен с точки зрения оценки возможности и перспектив, достоинств и недостатков в реализации постлиберальной парадигмы развития на практике. А значит, он может внести свою лепту в обоснование выбора более эффективной стратегии социально-экономического развития России в будущем.
1 В этой связи отметим, что проблеме изучения сходства в стратегии экономического развития России и Латинской Америки была посвящена дискуссия, прошедшая в журнале «МЭ и МО» (см.: Россия и Латинская Америка: сходные проблемы зависимого развития? / / МЭ и МО. 2004. № 2, 3,5.
2 Shanin Т. Russia as a «developing Society». London, 1985.
3K таким специфическим проблемам, к примеру, Я.Г. Шемякин относит следующие: 1) конти-нентально-планетарный размах; 2) доминация пространства над историей и человеком и, стало
быть, «хаоса» над «логосом»; 3) трудность овладения собственным внутренним многообразием.
(Шемякин Я.Г. Европа и Латинская Америка. Взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. М., 2001).
4См.: Страны и регионы. 2002: Статистический справочник Всемирного банка. М., 2003. С. 50, 170.
5 Там же. С. 33, 140.
6 В качестве примера можно привести Бразилию. Эта страна сегодня активно занимается космическими исследованиями, выпускает авиационную технику, которая стала одной из основных статей в экспорте. Примерно 15% мирового рынка гражданских самолетов приходится на долю Бразилии. В свое время столько самолетов выпускал СССР.
7 В трактовке Р. Пребиша периферийный капитализм является составной частью мировой системы хозяйства и он встроен в его структуру «как зависимый, придаточный капитализм, подчиненный интересам развитых стран, существующий под знаком их гегемонии и господства рыночных законов» (Пребиш Р. Периферийный капитализм: Есть ли ему альтернатива? М.,1992. С. 33).
8 ЭКЛА - Экономическая комиссия ООН по Латинской Америке, исполнительным секретарем которой в 1950-1963 гг. был Р. Пребиш.
9 Более подробно о проблемах региональной интеграции в Латинской Америке см. статью С.Ф. Сутырина в данном номере.
10 См.: Клочковский Л.Л. Латинская Америка на рубеже веков: новые тенденции хозяйственной эволюции // Латинская Америка. 2002. № 12. С. 7.
11 В 1990-2001 гг. прямые иностранные инвестиции в Латинскую Америку составили 446 млрд долл. (Там же).
13 При этом объявленный в декабре 2001 г. в Аргентине дефолт по внешнему долгу в размере 132 млрд долл. на настоящий период стал крупнейшим суверенным дефолтом в мировой истории. Финансовый кризис возник в результате проведения либерально-монетаристского экономического курса, а его непосредственными причинами выступили политика «валютного якоря», жесткая привязка денежной эмиссии к золотовалютным запасам, чрезмерная нагрузка бюджета на обслуживание внешнего долга (до 15% ВВП уходило на эти цели).
14 См.: Романова З.И. Латинская Америка в системе глобальной внешней торговли // Латинская Америка. 2004. № 4. С. 7.
15 Красильщиков В.А. Латинская Америка сегодня - Россия завтра // Мир России. 2002. № 1. С. 85, 90.
16 По данным Госкомстата РФ, в 2003 г. на 10% самых богатых приходилось 29,5% всех доходов (в 2002 г. - 29,3%), а на долю 10% наименее обеспеченных - 2,1% (в 2002 г. = 2,1%). Иначе говоря, превышение составляет 14,3 раза (в 2002 г. - 14,1 раза). По другим данным, оно превышает 17-18 раз или даже 30 раз.
Любопытно и такое совпадение: в ходе неолиберального реформирования в РФ появилось 27 долларовых миллиардеров и по этому показателю наша страна вышла на второе место в мире. В свою очередь, в Латинской Америке в настоящее время имеется 24 миллиардера (11 - в Мексике, 5 - в Бразилии, 3 - в Чили, по 2 - в Венесуэле и Колумбии, 1 - в Аргентине) (см.: Латинская Америка. 2004. № 4. С. 10).
17 Там же. 2002. № 12. С. 4.
18 О том, что демографический кризис превратился в критическую проблему, свидетельствуют такие факты. Несмотря на сохраняющийся экономический рост, население РФ продолжает сокращаться. В 2004 г. оно уменьшилось на 1,7 млн человек (!) и составило 145 млн. К середине XXI в. оно может сократиться на треть. В настоящее время более насущным выступает не столько удвоение ВВП, сколько восстановление численности населения и его последующее удвоение.
19 Подробнее см.: Рязанов В.Т. Постиндустриальная трансформация, ее социально-экономические модели и судьба экономики России в XXI веке // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 5. Экономика. 2001. Вып. 2.
кУБА
· Начало революционной борьбы против диктатуры Батисты
· Победа революции
· революционные преобразования
чилийская революция
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ СТРАНЫ В гг.
Этапы работы над проектом:
Острота аграрного вопроса привлекла в ряды активных участников революции и сельских трудящихся. В сельском хозяйстве Кубы 3/4 земельного фонда принадлежало американским компаниям и местным латифундистам (крупные земельные владельцы), которые к тому же владели предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, где трудились по найму сезонные рабочие. Из 6,6 млн. населения Кубы (1958) таких сельскохозяйственных рабочих насчитывалось около 0,5 млн. Основная масса сельского населения - это безземельные и малоземельные крестьяне, жившие в условиях крайней нищеты.
Особой причиной растущего недовольства стал террористический диктаторский режим Фульхенсио Батисты, установленный в результате государственного военного переворота 10 марта 1952 г. Была отменена конституция 1940 г, Национальный конгресс разогнан, были запрещены многие политические партии, в том числе и Коммунистическая, правительство Батисты сосредоточило в своих руках всю законодательную и исполнительную власть. И, хотя Батиста старался продемонстрировать свое административное рвение (национализировал часть железных дорог, строил шоссейные дороги, правительственные здания, военный порт, обеспечил армию телевизионной системой связи, закупил военные самолеты и оружие и т. д.), все же антинациональное содержание его внутренней и внешней политики было очевидно. Так, Батиста поддержал в 1956 г. уменьшение квоты на поставки кубинского сахара в США, что сократило валютные поступления от экспорта и снизило национальный доход. В следующем году США повысили тарифы на ввоз знаменитого кубинского табака, что привело к тем же пагубным результатам. Объем американских капиталовложений в годы правления Батисты увеличился на 1/3. В 1954 г. Куба поддержала интервенцию против гватемальской революции, а двумя годами раньше разорвала дипломатические отношения с СССР. Против оппозиционного движения внутри страны были развязаны репрессии, увеличились расходы на содержание армии и репрессивных органов. В то же время уровень жизни простых кубинцев был крайне низким, остро заявляли о себе жилищная проблема неудовлетворительная система здравоохранения и социального обеспечения. Хроническая безработица охватывала 1/4 экономически активного населения (одно из первых мест в мире). В этой среде были образованы многие партии, но вскоре большинство из них были запрещены, а их члены подвергнуты гонению и уничтожению.
Начало революционной борьбы против диктатуры Батисты-
Диктаторский режим Батисты не смог стабилизировать обстановку на Кубе. В стране происходили забастовки трудящихся, студенческие выступления, сопровождавшиеся стычками с полицией. В декабре 1955 г. бастовали 400 тыс. рабочих сахарных заводов и плантаций. Но первое время не было влиятельной политической силы, которая могла бы возглавить борьбу против диктатуры. Основные буржуазные партии были деморализованы и расколоты на фракции, доверие к ним масс было подорвано. Некоторые из них пошли на сотрудничество с диктатурой, другие заняли пассивную, выжидательную позицию, возлагая надежды на восстановление конституционного режима с помощью правящих кругов США и компромиссных соглашений с Батистой.
В такой обстановке инициативу открытого выступления против диктатуры взяла на себя группа молодых революционеров во главе с Фиделем Кастро.
Фидель Кастро Рус родился 13 августа 1926 г. Его отец был довольно богатым землевладельцем, имевшим около 9 тыс. га земельных угодий. Фидель рос в большой семье, в которой было ещё семь братьев и сестёр, включая сводных - от первого брака отца. В колледже «Белен» Фидель настолько выделялся среди своих сверстников, что преподаватели рискнули сделать довольно редкий прогноз, записав в характеристике юного выпускника: «Мы не сомневаемся, что он впишет не одну блестящую страницу в историю Кубы». Столь же успешно Фидель Кастро в 1945-1950 гг. учился и на юридическом факультете Гаванского университета, по окончании которого получил диплом адвоката.
Ещё на студенческой скамье он начал искать способы вывода страны из социально-экономического и политического кризиса. В год переворота Фидель Кастро был членом партии ортодоксов и надеялся, что именно эта партия возглавит борьбу против тирании. «Винтовку и приказ - вот и всё, что я желал иметь в тот момент», - говорил он. Но лидеры ортодоксов проявляли крайнюю нерешительность. И тогда Фидель Кастро, его брат Рауль и несколько десятков других молодых кубинцев решили порвать со старыми политиками, этими, по выражению Рауля Кастро, людьми-пробками, остававшимися на плаву всегда, при любых политических бурях.
Молодые патриоты понимали, что для свержения тирании нужно, прежде всего, поднять на борьбу народные массы. Обращаясь к кубинцам в те дни, Ф. Кастро говорил: «Нет ничего более горького, чем трагедия народа, ложившегося спать свободным, а проснувшегося рабом. Кубинцы, опять в стране бесчинствует тиран... Родина под игом, но наступит день, когда она опять будет свободной». Для того чтобы завоевать доверие народа и убедить его в возможности успешной вооружённой борьбы, чтобы, наконец, добыть необходимое оружие, Фидель Кастро и его товарищи решили захватить военные казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба и казарму в городе Баямо.
Около года шла подготовка к штурму. Патриотам пришлось преодолеть огромные трудности. Чтобы собрать средства, необходимые для приобретения оружия, многие из них отдали всё, что имели. 25 июля 1953 г. в усадьбе Сибоней, находящейся в 15 минутах езды от Сантьяго-де-Куба, в условиях строжайшей конспирации собрались 165 человек. Их главным лозунгом стали слова: «Свобода или смерть!».
Штурм воинских казарм в Сантьяго-де-Куба и Баямо, начатый революционерами на рассвете следующего дня, не принёс им успеха. Силы были неравными: революционеров было в 15 раз меньше, чем солдат правительственных войск. На специальном совещании, созванном Батистой в Гаване, диктатор заявил, что считает позором и стыдом для армии, что она понесла в три раза больше потерь, чем нападавшие, а потому приказал за каждого убитого солдата расстрелять 10 пленных. Многие попавшие в плен участники штурма были убиты, остальных, включая Феделя и его брата Рауля, предали суду.
На суде, отказавшись от услуг адвоката, Ф. Кастро выступил с речью «История меня оправдает», где обвинял диктатуру и изложил основные цели борьбы, которую он начал со своими единомышленниками против Батисты: свержение диктатуры и восстановление демократических свобод, ликвидация зависимости от иностранного капитала и утверждение суверенитета Кубы, уничтожение латифундизма и передача земли сельским труженикам, обеспечение промышленного развития и искоренение безработицы, повышение жизненного уровня и осуществление широких социальных прав трудящихся, в том числе права на труд, жилище, образование и здравоохранение. Приговор был суров: Фиделю Кастро - 15 лет тюремного заключения, Раулю Кастро - 13 лет. Но застенки не сломили их волю к победе.
В мае 1955 г. диктатор, желая показать, что он прислушивается к голосу народа, требовавшего свободы узникам Монкады, подписал закон об амнистии . 12 мая 1955 г. заключённый № 000, Фидель Кастро, выходя из тюрьмы, сказал корреспондентам газет, радио и телевидения: «За предоставленную нам свободу мы не отдадим ни одного атома нашей чести». Прожив в Гаване после амнистии всего лишь шесть недель, он покинул страну, заявив перед отъездом: «Как последователь Марти я думаю, что пришёл час брать права, а не просить, вырывать их, а не вымаливать. Я буду в одном из районов Карибского бассейна. Из таких поездок, как эта, или не возвращаются совсем, или возвращаются с обезглавленной тиранией у ног».
Фидель Кастро вместе с освободившимися участниками штурма Монкады и другими кубинцами, разделявшими их взгляды, обосновался в Мексике, где начал планомерную подготовку к развёртыванию на Кубе широкомасштабной партизанской войны. На Кубе создаётся революционно-демократическая организация «Движение 26 июля », в основу программы которой была положена речь Ф. Кастро «История меня оправдает». Руководимая им из эмиграции, эта организация проводит необходимую работу по созданию своих ячеек и боевых групп в различных уголках страны. В то же время руководящее ядро «Движения 26 июля» осваивало в мексиканских лесах азы воинской мудрости, перенимало боевой опыт испанского полковника Альберто Байо, одного из руководителей партизанского движения в годы гражданской войны в Испании. Так же в Мексике к Кастро присоединяется аргентинский революционер Эрнест Че Гивара (1, ставшим позже видным кубинским деятелем.
Несмотря на трудности подготовки вооружённой экспедиции, Фидель Кастро во всеуслышание заявил: «В 1956 г. мы будем свободными или принесём себя в жертву». 25 ноября 1956 г. в 2 часа ночи небольшая прогулочная яхта «Гранма» отправилась из мексиканского порта Туспан к берегам Кубы. На его борту было 82 человека. Возглавлял экспедицию Ф. Кастро.
Безумству храбрых поистине не было предела. Каждая минута этого плавания была сопряжена с величайшим риском. Сильно перегруженная яхта, рассчитанная всего лишь на девять человек, в любой момент могла выйти из строя или затонуть. За время её недельного плавания до Кубы она не раз могла быть обнаружена в Мексиканском заливе, а у батистовского командования были большие шансы уничтожить её вблизи берегов Кубы.
В штабе батистовской армии узнали о местонахождении «Гранмы» на рассвете 2 декабря от капитана каботажного судна, заметившего её в непосредственной близости от кубинского берега. Эта встреча вынудила революционеров в спешном порядке провести высадку в незапланированном и неизвестном повстанцам районе, около устья реки Белик. Затем, разделившись на небольшие группы, стали прыгать в воду. Впереди было большое, протяжённостью около 2 км, болото с мангровыми зарослями. В некоторых местах люди утопали по грудь в грязной жиже. В довершение всего над зоной высадки появились самолёты ВВС Кубы. Целых 40 км оставалось до спасительного убежища - гор Сьерра-Маэстра. Более 1000 солдат бросил Батиста на уничтожение повстанцев. Были перекрыты все дороги; все окрестности беспорядочно, но интенсивно обстреливались летавшими на бреющем полёте самолётами. Участники высадки разбились на группы по 2-3 человека и голодные, в полуобморочном состоянии, как писал потом Эрнесто Че Гевара, с боями продвигались по направлению к горам. 21 человек погиб, многие были взяты в плен и преданы суду.
В конце декабря до условленного места - заброшенной в горах усадьбы Кресенсио Переса, одного из организаторов «Движения 26 июля» в этом районе, - добрались всего 22 революционера, имевших лишь два автомата.
Правительственная печать Кубы и американские информационные агентства сообщили о смерти Фиделя Кастро и полном уничтожении отряда, а сам диктатор даже заявил 15 декабря 1956 г., что Кастро вообще не принимал участия в экспедиции «Гранмы». Вся эта кампания была направлена на то, чтобы подорвать в народе всякую веру в возможность революционной борьбы. Однако постепенно Куба узнавала правду о Сьерра-Маэстра и её героях. Популярность Фиделя Кастро росла. Местное население оказывало его отряду большую помощь, поставляя продукты питания, информируя о передвижении частей правительственных войск в горах, выделяя патриотам проводников.
Победа революции-
Борьба повстанцев постепенно превратилась в борьбу всего народа против военно-полицейского режима. Кастро совершал успешные нападения на подразделения правительственных войск и получал все растущую помощь населения. Ряды его увеличивались.
13 марта 1957 г. члены «Революционного директората» атаковали президентский дворец, намереваясь захватить Батисту, но потерпели неудачу. Многие участники восстания погибли, в том числе и Эчеверрия. Уцелевшие от расправ возродили организацию под названием «Революционный директорат 13 марта». Возглавил её Фауре Чомон.
5 сентября 1957 г. восстал гарнизон военно-морской базы в Сьенфуэгосе. Революционные моряки захватили город, вооружили население и несколько часов вместе с жителями оборонялись против стянутых к городу превосходящих правительственных сил.
В феврале 1958 г. Ф. Кастро посылает партизанскую колонну во главе с Раулем Кастро на восток от Сантьяго, где возник «Второй фронт имени Франка Паиса» с обширной освобожденной зоной. В других районах провинции Орьенте вскоре были созданы еще два фронта. В центре острова, в горах Эскамбрай (провинция Лас-Вильяс) начали действовать повстанцы «Революционного директората 13 марта».
НСП признала Повстанческую армию во главе с Фиделем Кастро главной силой революции и призвала всех коммунистов включиться в борьбу под его руководством.
В августе Ф. Кастро направил на запад две колонны под командованием К. Сьенфуэгоса и Че Гевары, которые в октябре достигли провинции Лас-Вильяс и соединились с местными повстанческими силами. К концу декабря почти вся провинция Орьенте оказалась в руках Повстанческой армии, блокировавшей в Сантьяго 5-тысячный гарнизон правительственных войск. Гевара начал штурм Санта-Клары - центра провинции Лас-Вильяс.
В этих условиях Батиста связывал основные надежды с поддержкой своего режима США. Практически до конца 1958 г. США оказывали ему всестороннюю помощь, не исключая при этом возможности неизбежного ухода диктатора с политической сцены.
В последние дни 1958 г. определилась схема действий антиреволюционных сил. С согласия Батисты его генералы осуществляют военный переворот, создают военную хунту, а затем временное правительство - третью силу, которая должна предотвратить приход Фиделя Кастро к власти.
В ночь на 1 января 1959 г. Батиста бежал. Целая вереница автомобилей направилась к усиленно охраняемому военному аэродрому, где диктатора и его приближённых ожидали четыре самолёта.
В начале января в Гавану вошли повстанческие части, возглавляемые Че Геварой и Сьенфуэгосом, а 8 января 1959 г. в столицу вступили основные повстанческие колонны во главе с Фиделем Кастро. Революция победила.
- Революционные преобразования-
Кубинская революция разрушила цепь зависимости Латинской Америки от США в силу их географической близости, но оказалась втянутой в борьбу двух сверхдержав - СССР и США, став в начале 60-х годов одной из наиболее конфликтных точек планеты. Странам Латинской Америки Куба продемонстрировала возможность перехода к социализму в короткие сроки при одном и том же политическом руководстве.
Сразу после победы революции вопрос о власти был решен с участием представителей буржуазно-либеральных кругов, поддержавших в 1958 г. Ф. Кастро. Временным президентом стал Мануэль Уррутия. Временное революционное правительство возглавил Хосе Миро Кардона, туда вошли лидеры буржуазных партий и Ф. Кастро. Правительство сосредоточило в своих руках как законодательную, так и исполнительную власть. Повстанческая армия контролировала ситуацию. Были восстановлены демократические свободы, распущены батистовская армия и полиция, казнены около 200 ближайших приспешников Батисты. Вопрос о дальнейших демократических преобразованиях вызвал серьезные разногласия в правительстве и вызвал его отcтавку. С 16 февраля 1959 г. премьер-министром становится Ф. Кастро, за ним остается также пост главнокомандующего повстанческой армией. Новое правительство повысило зарплату, снизило цены на коммунальные услуги и приступило к решению аграрного вопроса. 17 мая 1959 г. была объявлена первая аграрная реформа. Она положила конец латифундизму, установив максимальный предел земельной площади для одного лица или организации в 400 га. Земли свыше установленного максимума экспроприировались и распределялись среди безземельных, малоземельных крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Для крестьянской семьи из 5 человек предоставлялся бесплатно участок в 27 га. Желающие могли дополнительно приобрести у государства в рассрочку участки до 67 га. Землей могли владеть только граждане Кубы, все владения иностранных монополий конфисковывались. Образцово организованные животноводческие хозяйства и сахарно-тростниковые плантации не подлежали разделу, а переходили в руки государства для создания государственных народных имений или кооперативов.
Протестуя против радикального содержания аграрной реформы, ушли в отставку президент и последние представители буржуазии из правительства. С июля 1959 г. (по декабрь 1976 г.) президентом Кубы был Освальдо Дортикос Торрадо. Правительство по-прежнему оставалось органом не только исполнительной, но и законодательной власти . Вместо выборного законодательного органа народного представительства, типа парламента была диктатура вооруженного народа. Правительство опиралось на массовые организации, создававшиеся в процессе революционных преобразований, - комитеты защиты революции (КЗР), профсоюзы. Национальную ассоциацию мелких землевладельцев (АНАП), Союз коммунистической молодежи, Федерацию кубинских женщин. Кроме того, специфика государственных преобразований на Кубе состояла в сильной централизации власти в одних руках и сочетании партийных и государственных постов. Постепенно складывался тоталитарный режим, основанный на однопартийной системе и господстве одной идеологии, интегрировавшей в государственные структуры население страны, полностью запрещавшей любое оппозиционное движение, базировавшейся на бюрократическом партийно-государственном аппарате и культе вождя революции.
Первая аграрная реформа проводилась активно, вызывая противодействие противников Ф. Кастро, в первую очередь США. Куба установила с СССР торговые и экономические отношения, а с мая 1960 г. - дипломатические отношения. Нажим США усилился: американские компании прекратили поставки нефти на Кубу и сократили закупки кубинского сахара. С другой стороны, Куба - страна одного товара (сахара) для одного рынка (США), поэтому меры США поставили Кубу перед выбором, и она его сделала.
Летом 1960 г. были национализированы нефтеперерабатывающая промышленность, сахарные заводы и другие американские предприятия на Кубе. В ответ США установили экономическую блокаду Кубы, прервали торговлю с ней, приняли закон (сентябрь 1960 г.) о лишении американской помощи любого государства, оказывающего военную или экономическую помощь Кубе, прекратили туристические поездки американцев на остров, что дополнительно лишило Кубу 60 млн. долл. годового дохода и оставило без работы в сфере обслуживания десятки тысяч кубинцев. В январе 1961 г. США разорвали дипломатические отношения с Кубой. В этой критической ситуации СССР и другие социалистические страны закупили кубинский сахар и обеспечили ее нефтью и другими необходимыми товарами. Осенью 1960 г. кубинское правительство национализировало местную крупную и среднюю промышленность, торговлю, банки и транспорт.
США добились исключения Кубы из Организации американских государств (ОАГ) и методом «выкручивания рук» и нажима заставили все латиноамериканские государства (кроме Мексики) разорвать отношения с Кубой. На территории США (в Майами) сосредоточилась кубинская эмиграция во главе с Х. Миро Кардоной. Эйзенхауэр в марте 1960 г. отдал секретное распоряжение о помощи кубинским эмигрантам для подготовки их к военным действиям против Кубы, ЦРУ разработало план вторжения.
Ранним утром 17 апреля 1961 г. произошла высадка с американских кораблей кубинских контрреволюционеров на Плайа-Хирон, американские военные самолеты нарушили воздушное пространство Кубы. Однако кубинские вооруженные силы за 72 часа разгромили этот десант, было взято в плен 1200 чел. Кубинское правительство усилило меры по обеспечению безопасности страны. Летом 1962 г. в соответствии с договоренностью об оказании военной помощи между главами правительств СССР направил на Кубу необходимую военную технику, военных специалистов и вооружение, включая стратегические ядерные ракеты среднего радиуса действия. Эти ракеты были смонтированы на кубинской территории в обстановке строгой секретности. Американская космическая спутниковая разведсистема обнаружила их и 16 октября 1962 г. Белому дому стало известно о нахождении на Кубе советских ракет, в радиус действия которых входил ряд крупных городов США.
В этих условиях президент Дж. Кеннеди проводит спешное совещание и требует немедленно убрать советские ракеты с Кубы, а 22 октября объявляет военно-морскую блокаду Кубы. К ее берегам подошли корабли американских ВМС, на борту которых находились 85 тыс. солдат морской пехоты США. В небо были подняты самолеты стратегической авиации ВВС США, экипированные ядерными бомбами. Эта блокада должна была обеспечить «карантин» на поставки вооружения на Кубу путем задержания и досмотра судов других стран. Куба и СССР отказались признать подобный «карантин». Назревала опасность прямой военной конфронтации СССР и США, человечество оказалось на грани мировой термоядерной войны.
Так начался карибский кризис. США привели в повышенную боевую готовность все вооруженные силы. Аналогичные мероприятия провели СССР и страны Варшавского Договора. Ф. Кастро отдал приказ всем вооруженным силам Кубы занять свои позиции по боевой тревоге. Куба была приведена в состояние полной боевой готовности, превратившись в высокоорганизованный и четко управляемый военный лагерь.
Ввиду непосредственной и реальной угрозы миру Председатель Совета Министров СССР и президент США Дж. Кеннеди начали переговоры. Советская сторона подчеркивала, что какое-либо случайное использование наступательного оружия, которое беспокоит США, исключено. Советское оружие поставлено Кубе по просьбе ее правительства и только в целях обороны. К поискам мирного компромисса подключилась ООН и ее Генеральный секретарь У. Тан, прилетавший на Кубу для переговоров с Ф. Кастро и советским послом. Президент США Кеннеди, несмотря на сильное давление сторонников силового подхода, все же занял реалистическую позицию и к концу октября американская и советская стороны договорились о мирном окончании кризиса. СССР соглашался вывести свои ракеты с Кубы при условии, что США обязуются уважать неприкосновенность Кубы и не осуществлять против нее актов агрессии. 20 ноября 1962 г. президент Кеннеди объявил о снятии военной блокады Кубы.
Страна вернулась к мирной жизни, продолжая объявленный в 1960 и 1961 гг. курс на построение социализма. Были национализированы мелкие предприятия в промышленности, розничной торговле и сфере обслуживания. В 1963 г. началась вторая аграрная реформа, согласно которой хозяйства свыше 67 га экспроприировались и преобразовывались в народные имения для производства животноводческой продукции. На Кубе осталось 2 общественно-экономических уклада - государственный социалистический и мелкотоварный. Формировалась административно-командная система.
Особое значение для Кубы приобрел вопрос формирования оптимальной модели национальной экономики, так как революция произошла в монокультурной стране, экономика которой полностью зависела от конъюнктурных колебаний мирового и американского рынков сахара. Куба занимала первое место в мире по производству тростникового сахара, на острове было около 200 сахарных заводов, из них 4 было построено еще в XVIII в., более половины - в XIX в. Кроме того, построение социализма на Кубе началось в обстановке экономической блокады. Первоначальная программа экономического развития, которая реализовывалась в гг., предусматривала форсированную индустриализацию и создание многоотраслевого сельского хозяйства. Но она не учитывала внутренних возможностей и особенностей страны. Внутренние накопления быстро истощились, дорогостоящее импортное сырье, низкая производительность труда и недостаточная квалификация кубинских рабочих делали промышленное производство малорентабельным (дешевле было импортировать из-за границы). Кубе пришлось отказаться от этого курса. Начатый в 1964 г. новый курс взял за основу экономики те отрасли, для развития которых на Кубе были все условия, т. е. производство сахара и продуктов животноводства. Рост доходов от экспорта сахара позволил бы сделать солидные внутренние накопления для перехода в будущем к более эффективной и рациональной структуре народного хозяйства.
Трудности аграрных преобразований и индустриализации, финансирование обороны, ликвидация мелкого кустарного и индивидуального производства, отмена розничного рынка, разрыв внешних связей с традиционными партнерами заставили правительство перейти к карточной системе снабжения кубинцев.
Курс на построение социализма вызвал размежевание сил в трех ведущих политических организациях - «Движение 26 июля», НСП и «Революционный директорат» - и сделал необходимым их сближение на базе официальной идеологии марксизма-ленинизма. В 1961 г. эти организации сплотились в «Объединенные революционные организации» (ОРО), спустя два года (1963) ОРО преобразовались в Единую партию социалистической революции, которая в 1965 г. была переименована в Коммунистическую партию Кубы. Ее возглавил Ф. Кастро.
Спустя 10 лет, в декабре 1975 г., был созван I съезд воссозданной компартии. На съезде были приняты не только партийные (программа и устав), но и государственные документы, в частности проект конституции. В феврале 1976 г. проект был одобрен на общенародном референдуме и конституция вступила в силу. В том же году, согласно конституции, были проведены выборы в новые органы власти - Национальную ассамблею народной власти (парламент), провинциальные и муниципальные ассамблеи (местные органы власти). Председателем Государственного совета (высший орган Национальной ассамблеи в промежутках между ее сессиями) и премьер-министром стал Ф. Кастро, занимавший также пост первого секретаря ЦК компартии. Заместителем на всех трех ведущих постах был утвержден его брат - Рауль Кастро.
-Куба в 1970 -1980 -е годы-
К середине 70-х годов улучшилось внешнеполитическое положение Кубы. Она продолжала участвовать в международном социалистическом разделении труда и активно сотрудничала с Советским Союзом. С ней наладили экономические и дипломатические отношения многие страны Латинской Америки.
Огромное значение для экономического развития Кубы - более того, для ее существования - имела всесторонняя помощь Советского Союза (в меньшей степени - других соцстран). По гарантированным ценам выше мировых рыночных Куба продавала СССР сахар, цитрусовые, табак. Она поставляла одну треть потреблявшегося в СССР сахара, 2/3 кубинского экспорта приходилось на СССР. Советская сторона поставляла на Кубу сырье, технику, продовольствие и промышленные товары - нефть, трактора, грузовые автомобили, зерно и др. СССР готовил кадры для кубинской экономики и культуры, помогал строить различные предприятия, вплоть до атомной электростанции . Благодаря этой помощи и напряженному труду самих кубинцев росли отдельные экономические показатели, увеличивалась мощность электростанций и производство электроэнергии, возросли выплавка стали и выпуск продукции машиностроения, в том числе сельскохозяйственного, что позволило механизировать чрезвычайно трудоемкую рубку сахарного тростника (до 2/3 урожая).
Еще более ощутимыми и привлекательными для других развивающихся стран были успехи в социальной и культурной областях: ликвидация безработицы, жилищное строительство, отмена квартплаты, всеобщая грамотность, всеобщее бесплатное и обязательное 6-летнее образование, создание Академии наук; бесплатное здравоохранение, снижение детской смертности и увеличение средней продолжительности жизни до 74 лет.
Чили в 1970-1990-е годы
В сентябре 1970 г. на президентских выборах в Чили победил кандидат от блока Народное единство сенатор-социалист Сальвадор Альенде. В сформированное им правительство вошли представители социалистов, коммунистов и других левых партий. Левые силы стремились к революционным преобразованиям в стране. В 1971 г. были национализированы медная и другие отрасли добывающей промышленности, банки, внешняя торговля, многие крупные предприятия . Доля государственного сектора в производстве промышленной продукции превысила 60%. На частных предприятиях устанавливался рабочий контроль. Взявшись за начатую еще в конце 1960-х годов, но незавершенную аграрную реформу, правительство провело экспроприацию практически всех латифундий. На переданных крестьянам землях (около трети земельного фонда страны) организовывались производственные кооперативы.
Особое место в деятельности правительства Альенде занимала социальная политика. Была повышена заработная плата трудящихся . Развитие производства способствовало сокращению безработицы с 8,3 до 3,8%. Расширялись права рабочих и служащих на производстве, их роль в управлении предприятиями. Государство увеличило расходы на пенсионное обеспечение , образование, здравоохранение. Выборы в местные органы власти весной 1971 г. свидетельствовали о значительно возросшей поддержке правительства Народного единства, особенно увеличилось количество голосов, поданных за социалистов.
По мере углубления преобразований действия правительства встречали все большее сопротивление правых сил. Имея большинство в конгрессе, значительные позиции в государственном аппарате , они препятствовали принятию и осуществлению отдельных решений. К критике правительства привлекались средства массовой информации. Устраивались забастовки мелких предпринимателей, демонстрации домохозяек и т. д.
Разногласия существовали и среди левых сил. Активизировались левацкие группы, которые считали проводившиеся мероприятия недостаточными, критиковали правительство за «реформизм». Внутри Народного единства велись споры об отношении к средним слоям, о дальнейших преобразованиях. Коммунисты и часть социалистических деятелей считали необходимым установление «диктатуры трудящихся» (пример Кубы был рядом). С. Альенде придерживался умеренных позиций, выступал за сотрудничество с левым крылом оппозиционной Христианско-демократической партии.
Не добившись успеха в своих попытках отстранить правительство С. Альенде конституционным путем, руководители оппозиции сделали стайку на военный переворот. 11 сентября 1973 г. армия подняла мятеж, во главе которого встал главнокомандующий сухопутными войсками генерал А. Пиночет. Части мятежников штурмовали президентский дворец Ла-Монеда. Альенде предложили ему покинуть дворец. Президент отказался и погиб при взятии дворца мятежниками.
После переворота в Чили установилась власть военной хунты. Было введено осадное положение, отменено действие конституции, распущен парламент, объявлены вне закона партии Народного единства (в 1977 г. запрещена деятельность любых партий вообще). Профсоюзы частично распускались, а те, что оставались, оказались под государственным контролем . С первого дня переворота начались аресты, пытки, уничтожение десятков тысяч людей – деятелей партии Народного единства, профсоюзов, демократически настроенной интеллигенции. Страшную известность приобрёл Национальный стадион в Сантьяго, превращенный в концлагерь, где без суда и следствия были убиты тысячи людей. Созданная вскоре тайная военная полиция стала органом тотального надзора за населением и расправ с инакомыслящими.
Экономическая политика диктатуры предусматривала денационализацию большей части того, что при правительстве Альенде перешло к государству. Возвращалась к прежним владельцам часть экспроприированных и переданных крестьянам земель, В страну был допущен иностранный капитал. Важнейшим направлением деятельности правительства стала модернизация промышленности. При этом большое значение придавалось развитию экспортных отраслей (медной, деревообделочной, пищевой и др.). Социальные последствия модернизации состояли как в росте городского населения страны (от 75% всего населения в 1970 г. до 84% в 1985 г.), так и в значительном повышении уровня безработицы (от 3,8% в 1972 г. до 30,5% в 1982 г.).
Закреплению политических основ пиночетовского режима служила конституция 1980 г. Согласно ей, Пиночет без проведения выборов назначался президентом на 8 лет. В то же время было отсрочено выполнение статей конституции о деятельности парламента и политических партий. В 1988 г. хунта объявила плебисцит, с тем чтобы продлить президентские полномочия А. Пиночета еще на 8 лет. Однако более половины голосовавших ответили «нет». Пришлось назначать президентские выборы. На выборах в декабре1989 г. (победил кандидат от оппозиции, руководитель христианско-демократической партии П. Эйлвин. После 16-летнего правления военной хунты к власти конституционным путем пришло гражданское правительство.
Страны Латинской Америки в е гг.
В концех - 1980-е годы в латиноамериканских государствах активизировалась борьба против диктаторских режимов. В странах Центральной Америки она вылилась в революцию в Никарагуа и повстанческие движения в Сальвадоре и Гватемале. Произошла смена военных режимов гражданскими в южноамериканских государствах - Эквадоре (1979), Перу (1980),
Боливии (1982), Аргентине (1983), Бразилии (1985). Историки подчеркивали, что «в последнее десятилетие ХХ века Латинская Америка вступила впервые за свою историю практически без диктатур».
В экономической сфере латиноамериканские страны столкнулись со значительными трудностями. В 1980-е годы, названные впоследствии «потерянным десятилетием», произошел значительный спад производства (к началу 1990-х годов объем производства на душу населения в большинстве стран был ниже уровня 1980 г.). Почти до нуля снизился рост ВНП. Доля региона в мировом экспорте в 1987 г. сократилась до 3,9% (в 1970 г. она составляла 5,5%). Усилился отток частных капиталов за границу. Инфляция составила в 1986 г. 65%, в 1988 г. 470%, в 1989 г. 1200%. Ухудшение положения населения привело к массовым забастовкам, стихийным уличным выступлениям.
На рубеже 1980-1990-х годов во многих странах региона началось проведение макроэкономических реформ «по неолиберальным рецептам». Они предусматривали приватизацию части национализированных в предшествующие десятилетия предприятий, ограничение государственного вмешательства в экономику, установление режима жесткой экономии (в том числе в расходах на бюрократический аппарат), ориентацию производства на экспорт продукции, содействие «транснационализации» экономики.
В результате удалось несколько увеличить рост ВНП - до 3-3,5% в год, снизить инфляцию. Возрос объем капиталовложений из-за рубежа. Поскольку «либерализация» латиноамериканской экономики создавала благоприятные условия для деятельности транснациональных корпораций, США и другие государства-кредиторы пошли на списание латиноамериканским странам части внешних долгов , сокращение их выплат по процентам. Плодами неолиберальной модернизации воспользовалась прежде всего верхушка латиноамериканских обществ. В начале 1990-х годов доходы 20% богатейших и 20% беднейших граждан различались в 19 раз, тогда как в развитых странах мира - в б раз, почти половина населения находилась ниже черты бедности. Это свидетельствовало о сохранении значительных экономических и социальных проблем.
Заключение-
Таким образом, были рассмотрены, на наш взгляд, самые важные моменты в истории развития Латинской Америки в наше время, вопрос Кубинской революции.
Причинами ее была жесткая военная диктатура Батисты, но что самое важное, это участие (а фактически засилье) США в политической, культурной и экономической жизни Кубы.
Батиста был марионеткой в руках США, и он делал все возможное и невозможное, чтобы угодить своему хозяину и удержаться у власти.
Неудивительно, что ненависть к правительству Кубы и правительству США, жажда свободы копилась у Кубинского народа. Эта смесь взорвалась в национально освободительную революцию во главе, которой стоял Ф. Кастро, человек честный, волевой, целеустремленный. Он быстро нашел массу сторонников, и это есть причина столь достаточно быстрой смены власти.
Придя к власти свергнув клан Батисты и разорвав все экономические связи с США Ф. Кастро получает мощного врага.
Следовательно, т. к. в то время было две сверх державы США и СССР, Куба не могла развиваться самостоятельно, она вынуждена пойти по пути социализма и сблизиться в СССР. Советский Союз был заинтересован в существовании «форпоста социализма» на Кубе и всесторонне поддерживает ее. Естественно США были недовольны таким раскладом и всячески пытались вернуть себе «Остров Свободы».
Противостояние двух сверхдержав вылилось в поразивший весь мир карибский кризис, после которого США обещали не нападать на Кубу.
После распада СССР и, следовательно, краха соцлагеря Куба осталась «одна» в своем экономическом развитии.
Сегодня США по прежнему занимают непримиримую позицию по отношению к Кубе и это связано с личностью Ф. Кастро, который в свою очередь занимает непримиримую позицию к США.
В этом споре, скорее всего, одержат победу США и Куба снова, наверное, окажется под экономической и политической зависимостью от США. Однако, если это случится, то произойдет только после смерти Ф. Кастро.
Список используемой литературы
1) «Новейшая история стран XX века» (под редакцией) – 1998 Москва
2) «Новейшая история стран Латинской Америки» - 1995 Москва
3) «Всемирная история» (Главный редактор М. Аксёнова) – 1997 Москва
4) «История новейшего времени стран Европы и Америки. » (под редакцией) – 1993 Москва
5) «Всеобщая история. Справочник школьника» (Научный редактор)
6) «Новейшая история»(под редакцией) – 2005 Москва
§ 30. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА МЕЖДУ АВТОРИТАРИЗМОМ И ДЕМОКРАТИЕЙ
Вплоть до 1930-х гг. латиноамериканские страны развивались преимущественно как аграрные государства. Они вывозили продукцию крупных латифундий, использовавших труд низкооплачиваемых наемных работников, закупали промышленные товары.
Проблемы модели развития в Латинской Америке. Начиная с 1930-х гг., а особенно в послевоенные годы, большинство стран Латинской Америки вступило на путь модернизации, ускоренного индустриального развития. Ему способствовали благоприятные для этих стран обстоятельства.
В годы второй мировой войны возрос спрос на аграрную продукцию латиноамериканских стран. Удаленные от театров военных действий, эти страны дали приют многим эмигрантам из воюющих стран, в том числе и из разгромленных держав фашистской оси.
Это обеспечило приток квалифицированных специалистов, рабочей силы. Латинская Америка воспринималась как безопасный и, благодаря обилию природных ресурсов, неосвоенных земель, выгодный район для вложения капиталов. Несмотря на частые перевороты, сменявшиеся военные режимы не решались затрагивать интересы иностранного капитала, тем более, что большая его часть принадлежала корпорациям США.
Соединенные Штаты не раз прибегали к прямому военному вмешательству для смены правящих фигур в латиноамериканских странах, когда затрагивались их интересы. В ответ на национализацию земель, принадлежащих крупнейшей аграрной компании США «Юнайтед фрут», в Гватемале в 1954 г. при поддержке американских военных был организован переворот. Новое правительство вернуло компании ее собственность.
Стремление к самостоятельному, ускоренному развитию определило появление нескольких моделей модернизационного развития латиноамериканских стран.
Попытки создать широкий блок национально-патриотических сил проводить сбалансированную политику, при которой модернизация сочетается с повышением уровня жизни, предпринимались в Латинской Америке неоднократно. Первая и наиболее успешная попытка была предпринята в Аргентине полковником X. Пероном, захватившим власть в результате переворота в 1943 г.
При опоре на Всеобщую конфедерацию труда X. Перон в 1946 г. одержал победу на всеобщих выборах.
Представители профсоюзов, ставшие опорой создания новой, Перонистской, партии, вошли в парламент, в правительство.
Социальные права были включены в конституцию Аргентины. Вводились оплачиваемые отпуска, создавалась система пенсионного обеспечения. Выкупу или национализации подверглись железные дороги, связь, был принят пятилетний план экономического развития. Однако в 1955 г. X. Перон был свергнут в результате военного переворота.
Опыт и идеи перонизма, во многом перекликавшиеся с идеями корпоративного государства фашистского режима Б. Муссолини в Италии, сохраняют популярность и в Аргентине, и в других странах Южной Америки.
Слабость режимов, использующих популистские, демократические лозунги и методы, в Латинской Америке объяснялась многими причинами. Зависимые от голосов избирателей и поддержки профсоюзов, они в первую очередь решали назревшие социальные проблемы. В известной мере это удавалось.
В послевоенный период зарплата в промышленности латиноамериканских стран увеличивалась на 5-7% в год. Однако материальные ресурсы проведения активной социальной политики, которая бы соответствовала модели развитых стран, были крайне ограничены.
Левые, популистские правительства (в частности, президента С. Альенде в Чили в 1970-1973 гг.) пытались привлечь дополнительные средства. Они увеличивали налоги на предпринимателей, отказывались от полной уплаты процентов по внешним долгам, национализировали прибыльные предприятия, латифундии, экономили на военных расходах. Эти меры вызывали раздражение зарубежных корпораций, которым принадлежало около 40% промышленности стран Латинской Америки, вызывали конфликты со странами-кредиторами. Падали темпы технологического переоснащения производства, снижалась конкурентоспособность продукции на мировых рынках.
Правительства оказывались не в состоянии удовлетворять растущие социальные запросы, противостоять росту недовольства военных, усилению забастовочного движения, активизации леворадикальной оппозиции, прибегавшей к насильственным действиям, вплоть до создания сельских и городских партизанских отрядов.
Жесткое экономическое и политическое давление извне, рост внутренних противоречий, не находящих решения, приводили общество на грань гражданской войны. И тогда армия, как правило с одобрения правящих кругов США, брала ситуацию под свои контроль. Известна роль ЦРУ в организации военных переворотов в Бразилии в 1964 г. и в Чили в 1973 г. Переворот в Чили, приведший к власти генерала А. Пиночета, был наиболее кровавым в послевоенной истории латиноамериканских стран. С. Альенде погиб в ходе боев за президентский дворец. Центральный стадион в столице Чили - Сантьяго был превращен в концлагерь. Тысячи человек, активистов левых сил и профсоюзного движения, были казнены, около 200 тыс. бежали из страны.
Кубинская революция и ее последствия. Большое влияние на ситуацию в Латинской Америке и политику США оказала революция на Кубе. Повстанческое движение против диктаторского режима Р. Батисты приобрело массовый характер.
В 1959 г. после взятия повстанцами столицы Гаваны премьер-министром и главнокомандующим стал Ф. Кастро. Начатые радикальные реформы - национализация крупных земельных владений, промышленности, в значительной мере принадлежавшей американским компаниям, побудили правящие круги США начать борьбу с режимом Ф. Кастро. И США, и их союзники, в том числе государства Латинской Америки, разорвали с Кубой торгово-экономические и дипломатические отношения. В 1961 г. с американских кораблей на побережье Кубы высадился десант противников режима Ф. Кастро, обученных и вооруженных в США. Десант был разгромлен, но ситуация вокруг Кубы продолжала оставаться напряженной.
После Карибского кризиса 1962 г. угроза вторжения с территории США на Кубу отпала. Благодаря экономической поддержке СССР и его союзников Куба отчасти преодолела трудности, вызванные блокадой. Ее развитие в значительной мере опиралось на помощь СССР, закупавшего кубинский сахар по ценам выше среднемировых. На долю СССР приходилось около 3/4 внешней торговли Кубы. Предпринималась попытка превратить Кубу в «витрину социализма» в Латинской Америке. Это было частью советской политики оказания поддержки революционным, повстанческим движениям разных стран. С прекращением «холодной войны» и распадом СССР экономическое положение Кубы резко ухудшилось. Несмотря на жесткие меры экономии стал расти внешний долг, возникли перебои в снабжении населения продовольствием.
Неудачи попытки свержения правительства Ф. Кастро на Кубе, опасения, что ее пример окажется притягательным для других латиноамериканских стран, побудили США к изменению своей политики.
В 1961 г. президент США Д. Кеннеди предложил странам Латинской Америки программу «Союз ради прогресса», на которую было выделено 20 млрд. долларов. Эта программа, принятая 19 странами, была призвана содействовать решению назревших социально-экономических проблем стран континента, предотвратить появление у них стремления обращаться за помощью к СССР.
В то же время США с гораздо большей подозрительностью, чем в прошлом, стали относиться к антидиктаторским, повстанческим движениям, в том числе выступающим и под демократическими лозунгами. В 1980-е гг. ареной особенно острых внутренних конфликтов с косвенным участием США, СССР и Кубы стали страны Центральной Америки - Никарагуа и Сальвадор.
Модернизация и диктаторские режимы. Программа Д. Кеннеди помогла решению проблем модернизации, но не укреплению демократии в Латинской Америке. Модернизация осуществлялась не столько недолговечными гражданскими, сколько военными, диктаторскими режимами. Приходя к власти, они, как правило, брали курс на ускоренное развитие экономики, ограничивали права профсоюзов, свертывали социальные программы, замораживали зарплату для большинства наемных работников. Приоритетом становилась концентрация ресурсов на широкомасштабных проектах, создавались льготы для привлечения иностранного капитала. Эта политика нередко приносила значительный экономический эффект. Так, в крупнейшей стране Латинской Америки - Бразилии (население 160 млн, человек) «экономическое чудо» пришлось на годы пребывания у власти военной хунты (1964-1985).
Строились дороги, электростанции, развивались металлургия и нефтедобыча. Для ускоренного освоения внутренних районов страны столица была перенесена с побережья вглубь территории (из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа). Началось быстрое освоение природных богатств бассейна реки Амазонки, население этого района возросло с 5 до 12 млн. человек. С помощью зарубежных корпораций, в частности таких гигантов, как «Форд», «Фиат», «Фольксваген», «Дженерал Моторс», в стране было налажено производство автомобилей, самолетов, компьютеров, современного оружия. Бразилия стала поставщиком машин и оборудования на мировом рынке, ее аграрная продукция начала конкурировать с американской. Наряду с ввозом капитала страна стала вкладывать свой капитал в менее развитые страны, в частности Африку.
Благодаря усилиям военных режимов в области модернизации с 1960-х по 1980-е гг. объем валового внутреннего продукта стран Латинской Америки возрос втрое. Многие из них (Бразилия, Аргентина, Чили) достигли показателей среднего уровня развития. По объему производства ВНП на душу населения они к концу века стоят в одном ряду со странами Восточной Европы и Российской Федерацией. По типу социального развития латиноамериканские страны приблизились к развитым государствам Северной Америки и Западной Европы. Доля наемных работников в самодеятельном населении составляет от 70% до 80% . При этом в Бразилии с 1960-х по 1990-е гг. удельный вес рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, сократился с 52% до 23%, в промышленности возрос с 18% до 23%, в сфере услуг - с 30% до 54% . Сходные показатели были и у большинства других латиноамериканских стран.
В то же время остается весьма существенное различие между латиноамериканскими и развитыми странами. Во-первых, относительно небольшой была прослойка лиц, относящих себя к «среднему классу», и в то же время значительным было имущественное неравенство. Соотношение между доходами 20% самых бедных и 20% самых богатых семей в 1980- 1990 гг. в Бразилии, например, составило 1: 32, в Колумбии - 1: 15,5, в Чили 1: 18. При этом к привилегированному слою населения принадлежало среднее и высшее звено военных, которые при отсутствии традиции гражданского контроля над вооруженными силами представляли собой особую, относительно самостоятельную прослойку.
Все это определяло слабость социальной базы политической стабильности, отсутствие массовой поддержки модернизационной политики, проводившейся военными режимами. Низкая покупательная способность населения определяла зависимость новых отраслей индустрии от возможности экспорта продукции, на рынках царила жесткая конкуренция. Не получающее выгод от модернизации население видело в этом подчинение экономики международному, особенно американскому капиталу, а не путь к решению общенациональных задач.
Внутренняя оппозиция режимам военных диктатур пользовалась типичными для них слабостями - коррупцией верхушки военных, расточительностью в использовании кредитов и займов, нередко разворовывавшихся или направлявшихся на амбициозные проекты сомнительной экономической целесообразности. Негативную роль играл типичный для диктаторских режимов правовой произвол, в том числе и в отношении представителей национальной буржуазии, мелких и средних собственников. Рано или поздно большинство военных режимов, сталкиваясь с ростом внутренней оппозиции, в том числе и в военной среде, катастрофическими размерами внешней задолженности, было вынуждено уступать власть гражданским режимам.
Демократизация 1990-х гг. Со времени второй мировой войны и до 1990-х гг. гражданские режимы в большинстве латиноамериканских стран оказывались недолговечными. Исключение составляет Мексика, где после победы революционного движения в 1917 г. утвердилась демократия. Однако при сохранении стабильного господства одной политической партии, не имевшей серьезных конкурентов, соответствие данной модели демократии европейским стандартам сомнительно.
В 1980-1990-е гг. в развитии латиноамериканских стран начался новый этап. Диктатуры уступили место демократическим, конституционно избранным режимам. После поражения Аргентины в ";войне с Великобританией (1982), возникшей из-за спора о принадлежности Фолклендских островов, военный режим дискредитировал себя и вынужден был в 1983 г. передать власть гражданскому правительству. В 1985 г. диктаторские режимы в Бразилии и Уругвае также уступили власть конституционно избранным правительствам. В 1989 г. после 35 лет военной диктатуры генерала Стресснера на путь демократии вступил Парагвай. В 1990 г. ушел в отставку генерал А. Пиночет в Чили, в стране были проведены свободные выборы. С прекращением гражданской войны в Никарагуа и Сальвадоре эти страны также вступили на путь демократии.
Новый этап в развитии латиноамериканских стран характеризуется прежде всего тем, что в условиях прекращения «холодной войны» США уже меньше опасаются роста влияния враждебных им держав в Латинской Америке. Более терпимым становится отношение к социальным экспериментам в этом районе мира. Опыт Кубы, где производство ВНП на душу населения к середине 1990-х гг. оказалось почти вдвое ниже, чем в большинстве латиноамериканских стран, также ослабил влияние социалистических идей.
Благодаря развитию интеграционных процессов на южноамериканском континенте, повышению уровня жизни увеличилась емкость внутренних рынков, что создает предпосылки для более стабильного развития. В конце 1980 - начале 1990 гг. (этот период называют «потерянным десятилетием» для решения проблем модернизации) демократические режимы усиленно развивали социальную сферу, что привело к падению темпов экономического роста. Но к середине 1990-х гг. в большинстве стран темпы развития экономики вновь возросли. В 1980-1990-е гг. среднегодовые темпы прироста ВНП в Латинской Америке составляли всего 1,7%, в 1990-1995 гг. они возросли до 3,2% .
В конце 1990-х гг. кризис, поразивший новые индустриальные страны Азии, сказался и на Латинской Америке. В то же время, поскольку экономика латиноамериканских государств была более развитой, глубина этого кризиса для них оказалась меньшей, он не распространился на политическую сферу.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие благоприятные условия во время и после второй мировой войны способствовали ускоренному индустриальному развитию большинства стран Латинской Америки?
2. Чем объясняется особая роль США в новейшей истории латиноамериканских государств (вспомните содержание главы, посвященной периоду между двумя мировыми войнами, а также программу «Союз ради прогресса» 1961 г.)?
3. Назовите возможные альтернативы развития стран Латинской Америки после второй мировой войны. Какими обстоятельствами определялся выбор того или иного пути?
4. Выявите особенности политического развития ведущих латиноамериканских государств (таких, как Бразилия, Аргентина, Чили).
5. На фактах из истории отдельных стран (Кубы, Чили, Бразилии) раскройте и сравните результаты их развития по избранному ими пути.
6. Какими факторами был обусловлен переход большинства стран Латинской Америки к демократии с конца 1980-х - начала 90-х гг.? В чем выразились эти измерения?
7. Кого из латиноамериканских государственных деятелей вы можете назвать? Чья деятельность привлекает ваше наибольшее внимание? Почему?
Глава VIII. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА В XX ВЕКЕ
Сложные процессы социальной, экономической, политической жизни XX века, требующие теоретического осмысления, обусловили рост значимости общественных наук. В то же время реакция людей, в том числе и политических лидеров, на вызовы времени нередко определялась не оценкой ситуации, перспектив ее изменения, а представлениями о добре и зле, больше формирующихся под влиянием искусства, чем научных теорий. Это было в значительной мере связано с тем, что научное осмысление происходящих в мире процессов нередко отставало от потребностей времени, запросов практиков.
§ 31. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ, ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА
В XIX веке в основе научных представлений лежали материалистические и, в значительной мере, механистические воззрения. Их символом стали взгляды французского астронома и математика П. Лапласа (1749-1827), считавшего, что все можно подсчитать, взвесить и измерить. Атомы считались неделимыми и неразрушимыми кирпичиками мироздания. Вселенная, казалось, подчиняется классическим ньютоновским законам движения, сохранения энергии.
С созданием учения К. Маркса и Ф. Энгельса материализм распространился и на сферу общественных, гуманитарных наук. Формационная теория, предполагающая, что закономерностью является поступательное развитие человечества, предлагающая критерии прогресса, объяснение действий политических партий, их лидеров глубинными, экономическими интересами, к началу XX века приобрела большую популярность.
Основатели этой теории допускали, что политика не всегда механически отражает экономические интересы, видели между политикой и экономикой сложную диалектическую связь. Тем не менее, самостоятельное значение факторов общественной жизни, не связанных с экономикой и не вытекающих из нее, было недооценено. Религиозные, этнические, общенациональные интересы, исторические, культурные традиции, различные аспекты взаимодействия людей с меняющейся средой их обитания (то есть цивилизационные факторы общественного развития), а также личные мотивы поведения людей, в том числе и лидеров, особенности социальной психологии различных слоев населения в марксизме считались второстепенными. Между тем в определенных ситуациях они могут играть решающую роль. Соответственно, общественное, вообще историческое развитие оказывается многовариантным, лишенным всякой предопределенности.
В XX веке естественные науки с накоплением эмпирического, фактического знания преодолели наследие вульгарного материализма. Его крушение было обусловлено открытием радиоактивности, теории относительности А. Эйнштейна, изучением процессов, идущих на уровне микромира. Аналогичным образом, накопление фактических данных о социальных, общественно-политических процессах, сравнение путей развития народов, живущих на разных континентах, в разных условиях, содействовали углублению знаний об обществе и человеке.
Кризис вульгарно-материалистических и, в целом, оптимистических взглядов на общество проявился в начале века. Поведение избирателей на выборах, реакция лидеров на текущие события, политика государств на международной арене чаще всего не соответствовали тому, что марксистская, материалистическая теория считала логичным, вытекающим из их объективных интересов. В то же время в среде творческой элиты усиливались настроения пессимизма, озабоченности будущим, росло стремление к переосмыслению философского и историко-культурного наследия.
Эти настроения отразили те новые реальности, которыми ознаменовалось наступление нового века. Успехи естественных наук разрушили упрощенные, вульгарно-материалистические представления о простоте мира. Развитие индустрии, рост городов с их обезличенными промышленными пейзажами, стандартизация образа жизни, быта и потребления порождали представление о неестественности, искусственности происходящих перемен. Обострение социальных проблем, к решению которых общество было не готово, движения социального протеста, митинги, манифестации, связанные с возникновением массовых партий и профсоюзов, одновременно и пугали, и восхищали творческую интеллигенцию. Ощущая, что прежний мир, с четкими социальными перегородками, уходит в прошлое, она стремилась осознать, что идет ему на смену.
Первая мировая война, вспыхнувшая между нациями, считавшими себя цивилизованными, превратившаяся в многолетнюю бойню, усилила настроения скептицизма в отношении перспектив европейской цивилизации. Многие мыслители (как немецкий философ О. Шпенглер) предрекали закат европейской культуры, наступление эры «нового средневековья» (русский философ Н.А. Бердяев). Скептицизм в отношении традиционной европейской культуры был порожден также расширением горизонтов знания, благодаря которому европейцы открыли для себя культуру народов Востока (Тибета, Китая, Японии, Индии), африканских народов, афроамериканцев, американских индейцев, доколумбовой Америки и т.д.
Осмысление реальностей мира осуществлялось как средствами научного познания, так и искусства, при этом между ними не было непреодолимой грани. Напротив, наука в возрастающей степени обращалась к попыткам учета и отражения историко-культурной самобытности отдельных народов, мировых цивилизаций, влияющей на их общественное развитие.
Немецкий социолог и историк М. Вебер (1864-1920) рассматривал социальную структуру как многомерную систему. Он предлагал учитывать не только место групп людей в системе отношений собственности, но и социальный статус личности - ее положение в обществе в соответствии с возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением. Взгляды М. Вебера предполагают, что социальное поведение людей в большей мере является продуктом действия господствующей в обществе системы ценностей, культурных стандартов, определяющих значимость той или иной деятельности, оправдывающей или осуждающей социальное неравенство, способной влиять на характер распределения наград и поощрений.
Основным направлением развития теорий общественного развития стали идеи фаз (стадий) цивилизационного развития (Дж. Гэлбрайт, У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлеридр.) - от примитивной до аграрной, индустриальной, постиндустриальной (информационной).
Если формационная теория К. Маркса связывала прогресс человечества с изменением форм собственности на средства производства, то цивилизационный подход акцентировал внимание на смене форм и мотиваций производственной деятельности. Не преодолевая в полной мере детерминизма в понимании прогресса, он придавал намного большее значение, чем марксизм, историко-культурным, политическим особенностям и традициям отдельных цивилизаций, социальному статусу личности.
Развитие экономической теории было связано с более глубоким осмыслением роли и возможностей государства в экономической сфере. Разработанная Д. Кейнсом и развитая Дж. Гэлбрайтом теория регулирования рыночной экономики стала основой концепции «государства благоденствия» 1960-1970 гг.
Вопрос пределов государственного вмешательства в экономику, опасности превращения государства в инструмент всевластия бюрократии был изучен американскими экономистами Йозефом Шумпетером и Милтоном Фридманом. Их идеи взяли на вооружение неоконсервативные политики США и Великобритании в 1980-е гг., использовались некоторыми латиноамериканскими диктатурами при осуществлении модернизации экономики.
Исследование закономерностей индивидуального и группового социального поведения заложило основы прикладной социологии и политологии. Их предметом стало исследование широкого спектра проблем - от тактики проведения избирательных кампаний до подходов к урегулированию конфликтов. В значительной мере был преодолен разрыв между исследованием человека и крупных социальных общностей, политических систем. Выводы ученых начала века, разработавших теорию правящих элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс), в XX веке были пополнены большим фактическим материалом о социальном и политическом развитии почти двухсот государств. Это значительно раздвинуло горизонты знаний о закономерностях развития политических систем (Д. Истон, Т. Парсонс, Р. Арон, Г. Алмонд, К. Дойч), функционировании демократии (Р. Даль, М. Дюверже, Дж. Сартори и др.).
Для изучения социального поведения людей большое значение имели исследования в области индивидуальной и групповой психологии, мотивации поведения людей. Так, по мнению австрийского психиатра, эмигрировавшего в Англию 3. Фрейда (1856-1939), поведение человека в значительной мере определяется неосознаваемыми им мотивами, которые лежат в основе большинства психических расстройств, порождаемых конфликтом между неосознанными стремлениями и внутренними ограничениями на их реализацию, такими, как совесть, честь, достоинство.
Швейцарский психиатр К. Юнг (1875-1961), развивая идеи Фрейда, использовал понятие «коллективного бессознательного».
По мнению Юнга, в основе мышления, воображения личности лежат некие первичные образы - архетипы, одинаковые у всех людей и сформировавшиеся в незапамятные времена, когда человек жил в единстве с природой (образы матери-земли, мудрого старца, демона и т.д.). Архетипы выражали себя в мифологии, религии, магии, искусстве, призванных компенсировать отдаление человека от природы. Чем больше развивалась сфера сознания, особенно в условиях индустриальной европейской цивилизации, тем больше она становилась невосприимчивой к архетипам подсознания. Итогом стало распространение не только индивидуальных, но и массовых психозов, к следствиям которых Юнг относил массовые движения, войны, революции. Это, по его мнению, свидетельствовало о вторжении в культурную жизнь людей иррациональных сил, «коллективного бессознательного», проявляющегося в самых грубых и примитивных формах. Развивая идеи К. Юнга, французский философ К. Леви-Строс утверждал, что, хотя человек применяет условные знаки, символы (буквы, цифры) сознательно, в сфере культуры человек создал мир символов, выражающих бессознательные начала разума. В этом плане духовная культура в очень большой мере условна, построена на символах, иррациональных началах и понятиях, которые могут быть усвоены лишь людьми, сформировавшимися в рамках данной культуры.
В значительной мере прикладные исследования поведения людей, особенно в сфере политической и социальной жизни, были порождены практическими потребностями политических партий и движений, ведущих борьбу за голоса избирателей в ходе предвыборных кампаний. Изучение общественного мнения, возможности влиять на его формирование с помощью обращения к подсознанию стало одной из основ концепции «конца идеологии», ставшей популярной в развитых странах Запада в 1960-1970-е гг.
Основой этой концепции было убеждение: если большая часть населения удовлетворена материальными условиями жизни, избиратели перестают интересоваться идеями, предлагаемыми политическими партиями.
Социально-экономические программы, предложения о реформировании общества, особенно если они опираются на научные выкладки, для избирателей слишком сложны и скучны. Предвыборные кампании все чаще стали сводиться к обсуждению личных достоинств и недостатков кандидатов, злоупотреблений и коррупции в лагере политических оппонентов.
Возникла прослойка профессиональных имиджмейкеров, организаторов избирательных кампаний, возросла роль «желтой прессы», специализирующейся на скандалах в среде политической элиты.
Концепция «конца идеологии», сводившая политическую жизнь к технологии проведения предвыборных кампаний, не выдержала проверки временем. Симптомом этого стало падение активности избирателей, рост популярности новых идеологий. Возникший идейный вакуум начали заполнять идеи «новых левых», экологистов, различных религиозных течений.
Стихийно начавшаяся реидеологизация общества завершилась неоконсервативной революцией 1980-х гг. Она осуществлялась под лозунгами восстановления доверия к традиционным ценностям «демократического капитализма», морально-этическим нормам политики.
Большая роль в реидеологизации общества, обновлении духовных ценностей принадлежала искусству, художественному творчеству, литературе, театру и кино.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие изменения произошли с наступлением XX века в представлениях людей о жизни общества? Чем они были вызваны?
2. Каким образом первая мировая война повлияла на мировосприятие интеллигенции Европы, на ее оценку демократической культуры?
3. Какие новые идеи в учения об обществе внесли теоретики общественного развития в начале и середине XX века (М. Вебер и др.)?Что отличает их взгляды от подходов К. Маркса к развитию общества?
4. Охарактеризуйте основные экономические идеи первой половины XX века. Вспомните, какие из них применялись в практике развития ряда западных государств.
5. Почему в XX веке активизировались исследования в области политологии, прикладной психологии? Что нового они внесли в представления о человеке и его социальном поведении?
6. Объясните, почему теория «конца идеологии» не выдержала испытания временем? Какие взгляды пришли ей на смену?
выхода из кризиса, потерпела... сокращении стратегических наступательных вооружений. Выход Словении и Хорватии из...